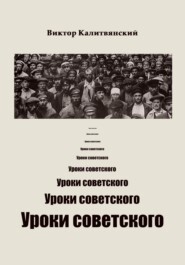
Полная версия:
Уроки советского
«Имея в виду, что история – процесс не логический, а народно-психологический и что в нем основной предмет научного изучения – проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием, – писал Ключевский, – подойдём ближе к существу предмета, если сведём исторические явления к двум перемежающимся состояниям – настроению и движению, из коих одно постоянно вызывается другим или переходит в другое».[12]
То есть, по Ключевскому, историческое движение определяется настроением масс. Или, говоря современным языком, определяется коллективным бессознательным масс…
Каковы же были настроения крестьянских масс, которые составляли преобладающее большинство населения России, в начале XX века? Каково их коллективное бессознательное?
Крестьяне российской империи были убеждены в том, что земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает своим трудом. Решения о захвате помещичьих земель, о вывозе сельхозпродуктов из помещичьих амбаров, о снижении арендной платы за землю принимались на общинных сходах и в глазах крестьян становились легитимными. Крестьянская община, служившая для русской власти средством контроля и управления крестьянским сословием, превращалась в инструмент борьбы крестьян за свои права. Доходило до того, что община объявляла о полном неподчинении государству. Марковская республика в Волоколамском уезде Московской губернии просуществовала с 31 октября 1905 года по 16 июля 1906.
«Россия вступила в XX век с сохранением помещичьего землевладения при крестьянском малоземелье, с выкупными платежами крестьян за «освобождение» от крепостного права, с политическим господством помещиков в деревне, с крестьянским бесправием, доходившим до административной (без суда) высылки из родных мест и даже телесных наказаний – прямого пережитка крепостного рабства. Сохранение крепостнического насилия над деревней, промедление с проведением давно назревших социально-экономических реформ делало неизбежным революционный взрыв», – к таким выводам приходит Виктор Данилов, один из ведущих исследователей истории крестьянства.[13]
Но российская власть привычно не обратила внимания на требования представителей большинства населения страны, отказалась от сотрудничества даже с центристской оппозицией и выбрала силовой вариант решения крестьянской проблемы. Вот типичный приказ министра внутренних дел Петра Дурново киевскому генерал-губернатору: «…немедленно истреблять силою оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления – сжигать их жилища… Аресты теперь не достигают цели: судить сотни и тысячи людей невозможно».[14]
После того, как с 1907 года крестьянские волнения пошли на спад, власти показалось, что она добилась своих целей. Но через десять лет, уже в условиях мировой войны, когда историческое русское государство пошатнулось, мужик-крестьянин не подставил ему плеча, – ему, мужику, грезилось, что в новой, неведомой жизни, без царя, дворян и помещиков его доля изменится к лучшему.
И можно ли винить его за эту наивную веру?
После революции помещичьи земли были переделены между членами общин, имения разграблены или сожжены, многие землевладельцы и члены их семей были истреблены физически (чего не было ещё в начале века во время крестьянских волнений).
На выборах в Учредительное собрание крестьяне отдали свои голоса эсерам, а кадетская партия получила лишь голоса городской интеллигенции. За немногим более десяти лет между двумя русскими революциями в сознании крестьянства произошёл коренной сдвиг: они утратили надежду на реформы сверху…
Уже с 1918 года, когда большевики двинули в деревню продотряды, крестьянство осознало, что и новая власть им враждебна. Крестьяне не столько выбирали между «красными» и «белыми», сколько пытались выжить, найти свою нишу среди двух враждующих стихий. Но было главное обстоятельство, которое решило дело: в сознании крестьянства «красные» отличались от «белых» тем, что не покушались на их права на землю. Да, руководители «белого» движения не раз подчёркивали, что их цель – победа над узурпаторами-большевиками, что все злободневные вопросы решит Учредительное собрание… Но «господско-офицерский» дух «белых» армий убеждал мужика-крестьянина в обратном. Именно такая позиция большинства русского народа – не поддерживать это «господское» движение – не позволила «белым» победить большевиков.
Большевистскую политику несли в низовые массы рядовые политического процесса – бывшие крестьяне, ставшие пролетариями, учителями, писарями. Они были связующим элементом между деревней с её традиционным укладом и городом, где создавалась и кипела другая, новая жизнь. Из этих людей формировались крестьянские фракции первых русских дум. Их голос услышала вся Россия с парламентской трибуны.
Мировая война многократно увеличила эту социальную группу. Миллионы таких русских мужиков прошли школу войны – школу социального и политического взросления и единения. Советы солдатских депутатов возникли раньше крестьянских и имели гораздо большее влияние. Участники этой социальной группы стали настоящей опорой большевиков в годы гражданской войны. Они были активным ядром «красных» армий, они сражались с «белыми» не щадя жизни, они умели говорить с деревенским мужиком и рекрутировать его в армию. Аргумент был прост: «белые» вернут господ… Большевистская власть представлялась крестьянам гораздо меньшим злом – несмотря на продразверстку.
Эти миллионы бывших крестьян – и шире, выходцы из «низов» – стали опорой новой власти и после гражданской войны. Они сформировали средний и нижний административный уровень партийных и хозяйственных органов. Малообразованные, они познавали азы управленческой науки на практике, становясь начальниками и руководствуясь в первую голову своим классовым инстинктом. Наиболее способные из них сделали карьеру на самом высоком уровне власти. После чисток 30-х годов, когда были уничтожены старые кадры, они заполнили ряды высшего руководства. Состав Политбюро ВКП (б) по итогам XVIII съезда в 1939 году – тому яркий пример. Там и в самом деле в подавляющем большинстве прямые выходцы из низовых слоёв общества: пролетарии и крестьяне.
Русские религиозные мыслители, Александр Солженицын, Василий Маклаков и многие современные интеллектуалы видят в революции только «безумные» массы, которые не ведали, что творят, разрушая историческое государство или не сопротивляясь разрушению. И возлагают вину за происшедшее – на русскую интеллигенцию, которая, будучи якобы безответственной и «беспочвенной», будто бы внушила тёмному народу вредные мысли о несовершенстве исторического государства, о вине «верхов» перед «низами»…
По мысли обвинителей интеллигенции, – будь она «почвенной» и ответственной, она должна была нести русскому низовому сознанию мысли о богоизбранности власти, о терпении, постепенном улучшении жизни; о том, что «низы» должны положиться на любовь «царя-батюшки» к своему народу, – то есть всё то, что составляло официальную пропаганду власти и православной церкви. Не о том ли писал в знаменитом сборнике «Вехи» в 1909 году Михаил Гершензон: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной».[15]
Надо признать, что личностные обвинения «веховцев» по адресу русских интеллигентов в догматизме, в преувеличении «социального» над «индивидуальным» – во многом справедливы. Русский интеллигент, зависший между низовым народным слоем и властью, – был своеобразным социальным камертоном неблагополучия дореволюционной России. Он был способен своё ощущение неблагополучия формулировать и доносить до тех, кто хочет слышать правду о состоянии общества и государства. Но этот голос скорее был слышен «верхами», нежели «низами». Роль интеллигенции в революционизации «низов» – сильно преувеличена. Это такой интеллигентский миф о себе самом, о своей способности сокрушительно влиять на социальные процессы. Настоящими причинами крестьянских движений были реальные настроения низовых народных масс, сформированные у них непосредственным социальным опытом.
В 1917 году сходятся два социально-психологических процесса.
Налицо был кризис «верхов». Ветшала система управления, построенная по принципу отсутствия обратной связи, когда огромной страной управляет узкий слой бюрократов, зачастую уже не совсем уверенных в своём праве управлять.
О «коллективном бессознательном» имущих сословий свидетельствует такое показательное явление, как помощь русских капиталистов революционерам. Фабрикант Морозов и другие помогают социал-демократам крупными денежными суммами. Максим Горький и многие деятели культуры – фактические агенты революционных организаций по сбору средств. Вообще, хороший тон образованного человека – презрение к власти, поддержка любых форм протеста. Эти настроение нарастают в русском обществе в течение многих десятилетий и достигают своего апогея в революцию.
В поэме Владимира Маяковского «Хорошо» описана встреча автора с Александром Блоком осенью 1917 года возле Зимнего дворца:
Я узнал, удивился, сказал:«Здравствуйте, Александр Блок.Лафа футуристам, фрак старьяразлазится каждым швом».Блок посмотрел —костры горят – «Очень хорошо».Кругом тонула Россия Блока…Незнакомки, дымки северашли на дно, как идут обломкии жестянки консервов.Сам Блок всю предреволюционную эпоху писал поэму «Возмездие»:
И отвращение от жизни,И к ней безумная любовь,И страсть и ненависть к отчизне…И чёрная, земная кровьСулит нам, раздувая вены,Все разрушая рубежи,Неслыханные перемены,Невиданные мятежи…Чувство исторической вины и неотвратимость возмездия – ощущения, которые явно или подспудно владело умами и душами высших сословий.
Тем временем преобладающая, «низовая» часть населения империи в начале XX века потеряла веру в сакральность высшей власти: царь-батюшка стал Николашкой, царица, по слухам, путается со срамным мужиком Распутиным, остальные уровни власти – «бояре» всех мастей – никогда не пользовались в народе доверием и популярностью…
Государство, как система разумного управления огромной территорией, рухнула, и сразу образовались два центра власти. Один вышел из прежней системы – комитет Государственной думы и Временное правительство. Другой образовался словно бы на пустом месте – Совет. А оказалось, что за Советом – огромное большинство, в том числе главная сила воюющей страны – рядовой слой армии. Солженицын недоумевает в статье о Феврале – что не нашлось ни одной боеспособной части, которая бы усмирила смутьянов на улицах Петербурга. Так ведь в том-то и дело, что именно – не нашлось… Будущий герой белого движения Александр Кутепов согласился было взять на себя миссию усмирения, да не нашлось даже роты.
Увы, следует признать, что большая часть населения империи довольно спокойно приняла крах монархии, а затем – и всего русского государства. Для всей «низовой» русской массы это государство уже не представляло особенной ценности.
Крестьяне – как социальная группа – совершенно не боялись разрушения привычных основ жизни, которым занялись большевики. Всё это поначалу даже не касалось крестьянского мира. Запрет торговли, денег, банковских операций? Это был кошмар для всех в России, кроме крестьян. Это был кошмар для городов, но не для русской деревни, там было главное: земля-кормилица. Весной – посадим, осенью – снимем урожай. И этот урожай – самая устойчивая валюта в том мире, в котором живут крестьяне.
Несколько столетий русские крестьяне ждали, когда смогут осуществить свои главные мечты: уничтожить помещика и справедливо поделить землю. Для них это стало возможным в 1917 году. Всё остальное, всё, что явилось трагедией для образованных групп россиян – разрушение исторического государства, интеллектуального, культурного слоя жизни – все это было несущественно для русского мужика, который не был гражданином, а только подданным, притом – подданным самого последнего сорта. В трудную минуту для исторического государства низовые слои не только не помогли ему выстоять, а наоборот – сделали все, чтобы оно разрушилось. Для этих слоёв Россия – как государство – была не матерью, которую следует защищать, не щадя живота своего, а только – злой мачехой, от которой избавляются в удобную минуту. Русское крестьянство, основная часть социальной дореволюционной пирамиды, легко перенесло исчезновение всей той сложной политико-культурной надстройки над деревенским миром. Мужику-крестьянину не нравилась новая большевистская власть, но старая была для него – неизмеримо хуже.
После 1917 года на авансцену новой жизни выходит «низовой» человек, крестьянин или пролетарий, который наполовину тот же крестьянин. Уничтожив социально и физически высшие сословия погибшей империи, отодвинув интеллигента на второй план, он теперь будет определять правила жизни. Большевистская власть будет опираться на этого «низового» человека, потому что у неё нет другого выхода.
Этот новый человек будет определять все условия новой жизни – от быта до культуры. В культуре теперь, как и в реальной социальной действительности, на первом плане – выходцы из социальных низов. Вместо Онегиных, Печориных и других дворян или разночинцев – в новой России на первом плане – такие типы, как Григорий Мелехов и Василий Тёркин.
Как ни относись к большевизму – как учению и как политической практике – следует отдать ему должное за точный анализ социального положения в дореволюционной России. Невозможно спорить с тем очевидным фактом, что именно русская правящая элита довела страну до революции. До самого конца существования российской империи Николай II и большая часть его окружения, «коллективное дворянство» всех мастей и уровней, – упрямо пытались сохранить старую сословную Россию, если не юридически, то фактически.
Да, русская элита осознавала необходимость реформ. Но властная группировка (царь, Столыпин и многие высшие бюрократы) полагала, что нужны лишь те реформы, которые обеспечат нейтрализацию «левой угрозы», усмирение крестьянского недовольства при сохранении незыблемости политического устройства, закрепляющего прежние, традиционные устои, где интересы и настроения «низов» почти не принимается во внимание.
«Низы» не согласились с таким способом реформирования исторической России. Произошла революция, которая обернулась новой, невиданной и неслыханной «пугачёвщиной» XX века. Старая Россия была уничтожена почти до основания.
Но кто же стал победителем в русской революции?
Привычный ответ – большевики. Но большевики – верхний, «кадровый» слой – были всего лишь узкой группой политиков, которые «оседлали» массовый процесс и направили его в нужное русло. Да, они стали фактическим правящим сословием на десятилетия, но они не сумели бы удержать власть, если бы не опирались на какие-то группы населения, которые выиграли от революционного катаклизма.
Какие из социальных групп получили выгоды от разрушения исторического государства и победы большевиков?
Все высшие социальные группы бывшей России – дворянство, бюрократия, духовенство, купечество, промышленники – были уничтожены социально. Часть этих социальных групп бежала за границу, часть была физически уничтожена, малая часть сумела войти в новую жизнь на новых условиях.
Как изменилось положение русских рабочих после революции и гражданской войны? Ответ вроде бы напрашивается: они – победители, на них опирались большевики, вся риторика новой власти – про-пролетарская. На самом деле, положение рабочих если изменилось, то, скорее, к худшему… Материальное их положение после гражданской войны не стало лучше, постепенно рабочие стали чем-то вроде новых крепостных при заводах и фабриках.
Русская революция по своим итогам – победа крестьянства над высшими российскими сословиями. Крестьянство – единственная социальная группа, которая выиграла по итогам революции: помещичье землевладение было уничтожено, земля – переделена крестьянами между собой. Вековая мечта русского мужика исполнилась… Да, через десять лет большевистская власть уничтожит крестьянство, превратив его в подневольную армию сельхозрабочих. Но десять лет после гражданской войны – золотой век русского крестьянства.
Возможно, этот золотой век длился бы по сию пору, если белому движению удалось бы победить большевиков. Представим себе на минуту, что генерал Деникин взял Москву осенью 1919 года. А воодушевлённая армия адмирала Колчака пришла бы в древнюю столицу с востока. А затем бы пал и Петроград. И верхушка большевиков искала бы убежище по всему миру…
Что произошло бы в этом случае в новой России, без большевиков?
Реставрация монархии была невозможна. Царская власть дискредитировала себе полностью не только в глазах «низов», но и «верхов». Трудно поверить, что парламент новой России утвердил бы монархию в качестве способа правления. Большинство в парламенте имел бы левый центр – кадеты, эсеры и меньшевики.
Вернули бы землю помещикам? Это тоже представляется невозможным. Власти пришлось бы утвердить передел земель, как это произошло в странах Восточной Европы после первой мировой войны – с компенсацией бывшим собственникам или даже вовсе без неё.
Новая власть ничего не смогла бы сделать – идя наперекор желаниям крестьянства, которое было бы главной социальной силой и составляло бы основу армии. В некотором смысле исполнился бы тот вариант развития страны, который предлагали кадеты в 1906 году. В этом случае началась бы другая история России, возможно, гораздо более успешная, гораздо менее кровавая.
Однако на весах истории несовершенства старой России перевесили возможность быстрой и относительно безболезненной её трансформации. Великие революции – английская, французская – расчищали дорогу капитализму, не разрушая основ жизни общества. Великая русская революция разрушила эти основы совершенно, и они не восстановлены до сих пор. Победила новая «пугачёвщина», призрак которой витал над страной полтора столетия. Тёмная крестьянская стихия, уничтожившая старую жизнь, постепенно получила адекватную ей оболочку – тоталитарную власть, которая принялась за создание нового государства и новой жизни.
Первые десять лет
Лай колоколов над Русью грозный –
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звёздные
Вздыбливаю тебя, земля!
Сергей ЕсенинВ Советском Союзе был хорошо известен английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Его книги издавали массовыми тиражами. Причины, по которой советская власть привечала английского писателя, лежат на поверхности. Во-первых, он был фантаст и, как правило, не касался политики. Во-вторых, в его книгах силён пафос преображения действительности, техницисткий взгляд на мир, так свойственный большевикам.
Кроме того, важную роль сыграло то, что Уэллс приезжал в Россию в 1920 году и встречался с Лениным. «Россия во мгле» – так озаглавил Уэллс репортаж о путешествии в революционную страну. Для нас эта маленькая документальная книжка интересна честным взглядом проницательного и образованного человека.
В Москве Уэллс встретился с Лениным, которого он назвал «кремлёвским мечтателем». В советских пропагандистских изданиях, в учебниках постоянно печаталась фотография, запечатлевшая встречу в Кремле вождя мирового пролетариата и английского гостя. Ленин на этой фотографии выглядит совершенно в духе будущего советского мифа: наклон головы, хитринка в прищуренных глазах – он словно провидит в тумане будущего то, что не способны увидеть другие.
Несмотря на то, что Уэллс позволил себе в «России во мгле» много критиковать советскую власть, эту его книжку в СССР не запретили и даже несколько раз издавали, хотя и не в собраниях сочинений. Другое дело, что достать этот текст рядовому читателю было практически невозможно.
Эта двойственность – не запрещение, но читателю недоступно – связана с тем, что Уэллс, с одной стороны, терпеть не мог Маркса и марксизм, а с другой – ещё хуже оценивал царский режим исторической России, полагая его виновным в русской катастрофе.
К большевикам Уэллс относился в целом даже с симпатией, принимая их за наименьшее зло. Он издевается над Марксом и его теорией классовой борьбы, но большевиков в России считает единственной цивилизационной силой и заканчивает свой репортаж фактическим призывом о помощи Советской России (все «белые» генералы, по его мнению, – сомнительные авантюристы): «Большевистское правительство чрезвычайно неопытно и неумело; временами оно бывает жестоким и совершает насилия, но в целом – это честное правительство. <…> Если оказать большевикам щедрую помощь, они, возможно, сумеют создать в России новый, цивилизованный общественный строй, с которым остальной мир сможет иметь дело. Вероятно, это будет умеренный коммунизм с централизованным управлением транспортом, промышленностью и, позднее, сельским хозяйством».[16]
Уэллс не раз упоминает, что коммунисты в немалой степени растеряны и не очень понимают, что им делать после того, как власть свалилась им в руки. Они ждали всемирной пролетарской революции, но западные рабочие бездействуют. Замечательно, что даже Ленин задаёт гостю вопрос: когда же английские рабочие совершат революцию?
«Я ясно видел, – пишет Уэллс, – что многие большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать: то, что в действительности произошло, на самом деле – вовсе не обещанная Марксом социальная революция, и речь идёт не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля».[17]
Следует отдать должное Уэллсу: он ещё в 1920 году отчётливо понял характер русской революции – крестьянский характер:
«По Марксу, социальная революция должна была сначала произойти в странах с наиболее старой и развитой промышленностью, где сложился многочисленный, в основном лишённый собственности и работающий по найму рабочий класс (пролетариат). Революция должна была начаться в Англии, охватить Францию и Германию, затем пришёл бы черед Америки и т. д. Вместо этого коммунизм оказался у власти в России, где на фабриках и заводах работают крестьяне, тесно связанные с деревней, и где по существу вообще нет особого рабочего класса – «пролетариата», который мог бы «соединиться с пролетариями всего мира».[18]
Очень интересны разбросанные по тексту «России во мгле» замечания Уэллса по «крестьянскому» вопросу.
«Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живёт почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается».[19]
«На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и т. д. <…> У крестьян сытый вид, и я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живётся даже лучше. У них больше земли, чем раньше, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что, пока оно у власти, теперешнее положение вещей сохранится. Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам Красной Гвардии отобрать у них продовольствие по твёрдым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними».[20]
И, наконец, последняя цитата из Уэллса:
«Утверждать, что ужасающая нищета в России – в какой-либо значительной степени результат деятельности коммунистов, что злые коммунисты довели страну до её нынешнего бедственного состояния и что свержение коммунистического строя молниеносно осчастливит всю Россию, – это значит извращать положение, сложившееся в мире, и толкать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперешнюю беду вследствие мировой войны и моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущей верхушки, как может попасть в беду и наше британское государство, а со временем даже и американское государство. <…> Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников, они сразу же обеспечили себе пассивную поддержку крестьянских масс, позволив им отобрать землю у помещиков и заключив мир с Германией».[21]
Сегодня, через сто лет после событий русской революции, мы не можем разделять симпатий Уэллса к большевикам, но мы должны согласиться с ним в одном: политическое и этическое банкротство русской дореволюционной элиты привело к полному краху страны.
Фактически власть оказалась в руках большевиков в 1917 году без особой борьбы. Случайно? Нет, не случайно. Из всех политических сил того времени большевики оказались самыми подготовленными к состоянию хаоса, в котором оказалась Россия. Большевики оказались самыми беспринципными – идеологически, политически, они были способны менять тактику борьбы за власть чуть ли не ежедневно, отбросив вовсе некоторые стратегические догмы.
Союзники-соперники большевиков, меньшевики, – в растерянности перед «неклассическим», немарксистским характером русской революции – фактически устранились от борьбы за власть.
Другие временные попутчики большевиков, социалисты-революционеры (эсеры), отрицали пролетарско-буржуазный характер революции, пытались опереться только на крестьянство.



