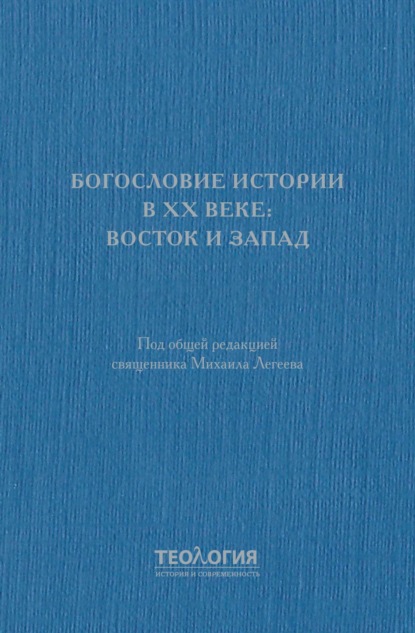
Полная версия:
Богословие истории в XX веке: Восток и Запад
Позиция прот. С. Булгакова полярна. В этом отношении особенно интересен его взгляд на отношения Церкви с государством в контексте общей задачи оцерковления культуры, социума и всего исторического «контента».
Так, о. Сергий различает два способа воздействия Церкви на мир – через главу государства, т. н. оцерковление «сверху», и оцерковление «снизу», через воздействие на души людей[240]. Однако он не считал ложным путь оцерковления народа через носителя государственной власти, будь то политический самодержец или выборный представитель власти, например, президент[241]. В книге «Православие. Очерки учения Православной Церкви» (впервые опубликована в 1935 г. на английском языке, и только в 1965 г., уже после смерти о. Сергия, на русском), прот. С. Булгаков оправдывает стремление Церкви «максимально влиять на государственную власть» и напоминает, что многие века византийской симфонии «христианские цари были водителями ко Христу своих народов дотоле, пока возможно было такое водительство»[242]. Констатируя, что время такого водительства миновало (после русской катастрофы 1917 г.), он не отказывает Церкви в возможности «оказывать влияние на всю жизнь государства, с проникновением его во все поры её»[243]. Наиболее адекватной формой оцерковления государства в новых исторических условиях является оцерковление «снизу», из народа и через народ, т. н. «народовластие в душах»[244]. Лишенная государственной мощи и поддержки, в новых исторических условиях Церковь обретает преимущество, т. к. теперь «влияние Церкви на души осуществляется путем свободы, которая, единственно, соответствует достоинству христианскому, а не принуждением сверху, которым иногда можно осуществлять более скорых результатов, но которое и наказуется в истории, как об этом достаточно говорит нам новейшая история и востока, и запада»[245].
В богословии прот. С. Булгакова идея оцерковления государства представляет собой не попытку осуществить Царство Божие на земле[246], но подчинена задаче реализации полноты ответственности Церкви за преображение и спасение мира. Если о. Н. Афанасьев признавал ответственность Церкви за теозис как космическое преображение мира, но не за исторический процесс, как путь человечества в пределах земного существования, то для о. Сергия история человечества неотделима от истории мира и космоса. Согласно его мысли, именно через историческое становление Церкви «человечество призвано стать Богочеловечеством, которое и есть подлинное основание творения»[247].
6. Подлинный и мнимый прогресс истории
Уже в ранних своих трудах («Основные проблемы теории прогресса» (1902), «Воскресение Христа и современное сознание» (1906), «Апокалиптика и социализм» (1910)) прот. С. Булгаков затрагивает проблему мнимого исторического прогресса, идею, доминирующую в сознании современного человека. В таком позитивистском понимании прогресса как технической эволюции он выявляет скрытые интенции «дурной бесконечности»[248], «механизации» и обезличивания бытия человека и общества[249], отсутствия подлинного и единого субъекта истории и превращения человеческого единства (идея которого здесь сохраняется[250]) в пустую абстракцию как бесконечную смену поколений, лишь условно связанных друг с другом[251]. Итогом такого «прогресса» неминуемо «наступает царство ничем непобедимой пустоты и скуки… бездна отчаяния, раскрывающаяся в конце пути пред человеком»[252].

Подлинный прогресс истории, присущий человечеству через силу Христа и действие Церкви в мире, напротив, эсхатологичен, телеологичен и кенотичен. Он состоит в становящемся и конкретно-конечном осуществлении Божественного плана о человеке и человечестве, плана его обожения и богоуподобления. Этот план включает в себя как совершенное исполнение в едином человечестве потенции добра, так и в совершенном истощении сил зла. Развивая своё учение о внутрибожественном кенозисе[253], о. Сергий имеет в виду прежде всего именно земной план истории, отражающий в своём становлении Божественную жизнь.
Через подвиг Христа кенотические отношения любви входят в мир, постепенно преображая его. Эти отношения подлинно природны, а потому только они могут быть сохранены для вечности в форматах того личного творческого выбора, который осуществляет каждый человек и человечество в целом[254] в формате «не… только алгебраическая сумма бесконечного ряда отдельных личных дел в их случайной хаотичности, но положительный интеграл в природной закономерности связанного ряда, и эта его закономерность есть Христос, „Которым все, и мы Им“ (I Кор 8:6)»[255]. Нарастающий в истории антиномизм[256], борьба сил добра и зла свидетельствуют о зрелости кенотического христоподобного подвига Церкви, в котором и через который эсхатологически выявляется бессилие и онтологическая бессущественность самых предельных форм зла[257].
Так, при всей трагичности истории, она оказывается оптимистична[258]; залог этого оптимизма заключён в онтологизме – в онтологизме внутритроичных отношений, которые кенотичны, и этот кенозис для о. Сергия имеет личное осуществление (Каждым из Лиц Святой Троицы), но природен по своему источнику, заключён в самой Божественной природе. А значит, и в природе человека, отображающей Божественную и совершенно принимаемую на себя Христом.
Вся история, подчёркивает прот. С. Булгаков, имеет двойной характер – кенозиса и торжества, «увещания к мученичеству… и увещания к творчеству»[259]. В их сочетании и даже чередовании «кривая истории, с колебаниями отклоняющаяся вверх и вниз»[260], устремляется к своей финальной точке. В конечном итоге о. Сергий изображает историю как «единое трагическое действо»[261], в котором по его осуществлении снимается историческое противоречие между трагедией и торжеством, – становится несуществующим, подобно тому, как внутрибожественная жизнь, исполненная, согласно о. Сергию, кенозисом и торжеством, жертвенностью и жизнью, пребывает выше каких-либо противоречий[262]. Перекос в какую-либо одну сторону этой антиномической пары (кенозис, торжество) в процессе истории – зависание в историческом процессе или, напротив, безудержное устремление к эсхатону[263] – характеризуется прот. С. Булгаковым как «антиисторизм» и серьёзная опасность на пути богословского осмысления значения истории в её глубоком и взаимопроникновенном отношении с эсхатоном[264].
7. Периодизация церковной истории
Определённый интерес представляет собой также попытка прот. С. Булгакова периодизации истории Церкви. Деление её на три эпохи, или периода («доконстантиновский», «константиновский» и «послеконстантиновский»[265]), характеризуется, помимо прочего, прогрессивной динамикой исторического развития Церкви:
1. «Доконстантиновская» эпоха. Преимущественно «Церковь здесь раскрывается в аспекте… личного творчества и вдохновения как содержания жизни церковной»[266].
2. «Константиновская» эпоха. Характеризуется устоявшейся иерархической структурой Церкви, которая приобретает вид институции, утверждённой церковным правом, связанной с понятием общины, «общества верующих» (отличаемого о. Сергием от универсума «всей вселенной в Боге»)[267].
3. «Послеконстантиновская» эпоха. Согласно мысли о. Сергия, начинается после крушения Российской империи в 1917 г.[268]
Начало этой эпохи он охарактеризовал как «положение, в котором Церковь никогда в мире не бывала»[269], как время исполнения для Церкви «своего особого призвания, своей свободы, возможности полагать новые пути для церковного сознания, для духовного творчества»[270], время исторического выявления Церкви как целого, её соборной природы[271].
В этих чертах, если отбросить спорные или ошибочные интерпретации о. Сергия[272], можно уловить ценную мысль – некий исторический акцент, как бы представляющий внутреннюю структуру Церкви в динамике её развития, формирования особого исторического значения составляющих её «элементов»: человека, общины, целого[273].

Конкретные границы представляемых здесь эпох, как и ряд сопутствующих положений, могут быть оспорены[274], но общий посыл булгаковской мысли, обращённый к поиску закономерностей исторического процесса, соотносимых с вневременным бытием Святой Троицы, следует признать знаковым для последующего развития богословия истории и экклезиологии, взятых в их взаимном отношении.
8. Заключение
Таким образом, богословие истории составляет важнейшую часть богословского наследия и всей богословской системы прот. С. Булгакова. Его основные идеи в этом отношении достаточно чётко выражены, даже несмотря на порой слишком вольный для церковного писателя язык, проблемы с терминологией (впрочем, вполне типичные вообще для богословия XX в.) и меняющиеся взгляды на некоторые вопросы.
Несомненно, что почти во всех положениях богословской системы прот. С. Булгакова присутствуют уязвимости, иногда ошибки или, по крайней мере, те или иные ошибочные элементы, обусловленные как грузом «философского» прошлого, так и слишком вольным его подходом к самому процессу богословского творчества. В глазах следующих поколений эти ошибки нередко будут заслонять то ценное, что содержится в его трудах. Понятие «софия» (в том глобальном контексте, который оно имело в богословской системе о. Сергия) не приживётся в богословии, будучи справедливо отвергнуто буквально всеми – противниками, сторонниками, учениками… Даже само имя о. Сергия окажется как бы затушёванным и мало упоминаемым у тех богословов, на которых его наследие окажет значительное влияние.
Однако при всем при том интенции его мысли окажутся необычайно плодотворными для последующей церковной мысли, особенно для богословия истории. Такие богословы следующего поколения, как схиархим. Софроний (Сахаров) или прот. Думитру Станилое, будут прокладывать течение своей мысли именно по тем – во‑многом новаторским – направлениям, которые были заложены в его трудах, развивая их и отсекая то, что вступает в противоречие с церковным Преданием. Время покажет особую ценность и значимость именно этой школы для построения богословия истории как систематической дисциплины для решения современных и актуальных задач, стоящих перед Церковью.
В настоящей главе мы попытались, не скрывая недостатков, акцентировать и выявить то ценное, что содержится в его историко-богословской мысли.
1.3. Святитель Серафим (Соболев). Взгляд в прошлое
«Будем… вместе с нашей Церковью стремиться к получению от Бога этой величайшей Его милости… – самодержавной царской власти… которая относится к Церкви на основе симфонии властей»[275].
«Оцерковление русского государства имело своим источником истинную самодержавную власть в её отношении к Церкви на основе симфонии властей; а расцерковление его было… нарушением этой симфонии царской властью»[276].

1. Введение
Трагические события российской и общеевропейской истории XX в. разрушили главенство гуманистических ценностей и идеалов, поставили под удар не только русский православный мир, но и христианскую культуру в целом. Современные исследователи, стремясь обобщить совокупность разнообразных философских идей социальных преобразований, прогресса, нигилизма, революционизма, объединяют эти негативные тенденции в понятии утопизма. Корни данного явления уходят в глубины иудейской апокалиптики, эзотерического гностицизма и средневековых ересей, в частности в историософское учение аббата Иоахима Флорского о трех эрах в истории человечества – Отца, Сына и Святого Духа, которое предполагает поступательное движение к «духовному совершенству», преодоление века Христова в веке Духа и устроение Царства Божиего на земле, где восторжествуют любовь и свобода, а всякая власть устранится[277].
Уже русская предреволюционная мысль периода Серебряного века отразила интерес к различным прогрессистским теориям. По мнению видного польского историка философии А. Валицкого, в секуляризованной истории Нового времени идея прогресса занимала ведущее положение, поэтому российская интеллигенция XIX в. видела в приверженности прогрессу основу для самоопределения. Вместе с тем вера в его неизбежность имела в России как фанатичных энтузиастов, так и непримиримых критиков[278], число которых значительно увеличилось после революционных событий 1917 г. Внимание к историософии и эсхатологии достигло апогея в трудах представителей российской эмиграции первой волны, обратившихся к осмыслению истории на фоне революционного пожара, разразившегося на родине. Для примера можно назвать такие работы, как «Смысл истории» Н. А. Бердяева (1923), «Философия истории» Л. П. Карсавина (1923), «О типах исторического истолкования» Г. В. Флоровского (1925), «Православие и историческая критика» Г. П. Федотова (1932) и др. Историк философии В. И. Повилайтис утверждает, что проблемы философии истории занимают центральное место в сочинениях практически всех российских мыслителей-эмигрантов первой волны, выделяя вопросы определения смысла истории и ее религиозного понимания[279]. Однако он полагает, что «первая эмиграция» не успела выработать целостную концепцию философии истории – у большинства авторов было, по сути, лишь два десятилетия для активного творчества, учитывая последовавшую катастрофу Второй мировой войны[280].
Представляется, что сегодня еще рано говорить о восстановлении полной и объективной картины философской и богословской мысли русского зарубежья, о возвращении и глубоком осмыслении его наследия. В богословии русской эмиграции XX в. традиционно выделяют два магистральных направления, в некоторой степени продолжавших традиции русской мысли XIX в., т. е. религиозного западничества и либерализма, достигшего кульминации в творчестве Вл. С. Соловьева, и церковного консерватизма, к представителям которого можно отнести свт. Феофана Затворника, св. прав. Иоанна Кронштадтского, К. Н. Леонтьева и др. Христианскому универсализму Вл. Соловьева наследуют «русское религиозное возрождение»[281], а в эмиграции – деятели журналов «Новый град» (мон. Мария (Скобцова), Г. П. Федотов, Ф. А. Степун[282]), «Путь» (Н. А. Бердяев) и «парижской школы богословия», связанной с Свято-Сергиевским богословским институтом (прот. С. Н. Булгаков, протопр. Н. Афанасьев, протопр. В. Зеньковский, В. Н. Ильин и др.). Характерно, что еще один из представителей «русского религиозного возрождения», организатор Религиозно-философских собраний 1901–1903 гг. В. А. Тернавцев заявлял о наступлении времени показать миру, что в Церкви есть не только загробный идеал и «правда о небе», но и чрезвычайно важная «правда о земле»[283]. Мыслители-эмигранты «парижской школы», относившейся к Западноевропейскому экзархату Константинопольского Патриархата, по замечанию современного историка русской эмиграции, также особенно интересовались «земным» и нередко склонялись к вере в возможность осуществления Царства Божиего на земле и к хилиастическим воззрениям[284]. Но если трудам «парижан» посвящен уже значительный пласт современной научной литературы, то исследование богословия (в частности, богословия истории) представителей Русской Православной Церкви Заграницей только начинается. Среди наиболее крупных фигур данного направления можно отметить митр. Антония (Храповицкого), митр. Анастасия (Грибановского), архим. Константина (Зайцева), свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Аверкия (Таушева) и др. Особое место в этой плеяде занимает свт. Серафим (Соболев), давший в своих сочинениях богословские ответы на многие вызовы прогрессистского утопизма XX в. Наследие святителя до настоящего времени концептуально практически не изучено, рассматриваясь в основном в историческом ключе, в контексте истории РПЦ и РПЦЗ[285].
Свт. Серафим (в миру Николай Борисович Соболев) родился в Рязани 1 декабря 1881 г. После окончания с отличием Рязанской духовной семинарии (1900–1904) учился в Санкт-Петербургской духовной академии (1904–1908), которую окончил со степенью кандидата богословия, приняв на последнем курсе монашеский постриг и рукоположение в священный сан. Период обучения святителя пришелся на тревожное время революции 1905–1906 гг., массового увлечения интеллигенции антихристианскими учениями, подъема т. н. освободительного движения. К сожалению, духовные школы были вовлечены в некоторые из этих разрушительных процессов[286], чему свт. Серафим активно противодействовал и уже в эмиграции дал глубокую богословскую оценку. Большую роль в формировании его взглядов сыграло участие в «Златоустовском кружке», объединявшем студентов, занимавшихся изучением святоотеческого наследия, постоянное чтение Четьих-Миней, а также общение со св. прав. Иоанном Кронштадтским и прпп. оптинскими старцами. После академии будущий святитель работал преподавателем Пастырского богословского училища в Житомире, смотрителем Калужского духовного училища, инспектором Костромской семинарии, ректором Воронежской и Таврической семинарий, в 1920 г. принял епископскую хиротонию. В эмиграции он был назначен управляющим русскими православными общинами в Болгарии, в 1934 г. возведен в сан архиепископа, вел активную церковную и общественную деятельность. С 1920 по 1945 гг. иерарх входил в юрисдикцию РПЦЗ, в 1945 г. вместе с семью приходами перешел в Московский Патриархат, в 1948 г. принял участие во Всеправославном совещании в Москве. Владыка Серафим почил 26 февраля 1950 г., широко почитался верующими как при жизни, так и после смерти, были зафиксированы многочисленные случаи его чудотворений. 3 февраля 2016 г. он был прославлен Русской и Болгарской Православными Церквами в лике святителей.
Анализ исторических процессов и явлений с богословской точки зрения присутствует в большинстве текстов свт. Серафима (Соболева), начиная еще со студенческих работ, посвященных вопросам аскетики и обличению социализма, и заканчивая написанными в эмиграции фундаментальными сочинениями с критикой модернизма, а также позднейшими докладами и статьями. Самыми существенными известными на сегодняшний день его трудами являются: «Социалистический и откровенный взгляды на будущий строй земной жизни» (1907), кандидатская диссертация «Учение о смирении по „Добротолюбию“» (1908), магистерская диссертация «Новое учение о Софии, Премудрости Божией» (1935), богословско-полемические работы «Протоиерей С. Н. Булгаков как толкователь Священного Писания» (1936), «Защита софианской ереси протоиереем С. Булгаковым пред лицом Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви» (1937), доклад на Втором Всезарубежном Соборе РПЦЗ «О нравственной основе софианства» (1938), историософская книга «Русская идеология» (1939), богословский ответ на критику «Русской идеологии» «Об истинном монархическом миросозерцании» (1941), апологетический сборник «Искажение православной истины в русской богословской мысли» (1943) (включает работы: «По поводу статьи митрополита Антония (Храповицкого) „Догмат искупления“», «По поводу книги архимандрита Сергия „Православное учение о спасении“», «По поводу книги проф. протоиерея П. Я. Светлова „Идея Царства Божия“», «По поводу сочинения иеромонаха Тарасия „Великороссийское и малороссийское богословие XVI и XVII веков“», «По поводу статьи архимандрита Илариона „Единство идеала Христа“»), многочисленные проповеди (изданы сборники проповедей за 1920–1944 гг. (1944) и 1945–1949 гг. (1998)), три доклада на Московском Всеправославном совещании 1948 г. – «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?», «О новом и старом стиле», «К вопросу о соединении Англиканской церкви с Православной Церковью» (1948), а также статья «О правах епископов и церковном модернизме» (1949).
В настоящей главе рассматриваются избранные сочинения, отражающие ключевой аспект богословия истории нашего автора – полемику с прогрессистскими утопиями XX в., так или иначе находящими продолжение в современности.
2. Учение о Царстве Божием на земле: разоблачение хилиазма
Проблематика богословия истории особенно широко представлена в труде «По поводу книги проф. протоиерея П. Я. Светлова[287] „Идея Царства Божия“[288]». Он относится к позднему, эмигрантскому, периоду творчества свт. Серафима и, как уже сказано, входит в изданный в 1943 г. сборник «Искажение православной истины в русской богословской мысли»[289]. При анализе данного сочинения нельзя не отметить его богословскую зрелость – оно сосредотачивает тематику многих других текстов святителя, причем содержит основные их идеи в кратком изложении. Работа является апологетической и направлена на критику ряда прогрессистских эсхатологических утопий, присутствующих не только в рассматриваемой книге прот. Светлова, но и в источниках, на которые он ссылается.

В первой главе дан анализ учения прот. П. Светлова о Царстве Божием. Свт. Серафим с сожалением отмечает, что книга оппонента, представляющая собой капитальный труд в 467 страниц и стоившая автору больших усилий, «имеет в своей основе ложную мысль»[290], которая проходит через все ее содержание и выражается прежде всего в главных определениях Царства Божиего, а также в ряде подобных по смыслу заявлений. На первый взгляд, эти формулировки не кажутся вопиюще еретическими, однако святитель подробно разъясняет их недопустимость и те заблуждения, к которым они приводят. Согласно первому определению, о. Светлов понимает под Царством Божиим «единение каждого человека и всех людей вместе с Богом»[291], данное человечеству во Христе. Во втором определении Царством Божиим назван «постепенно устрояемый Провидением совершенный порядок вещей в природе и истории»[292], когда человечество во главе со Христом примет участие во всех благах искупления.
Возражая на первое понятие, свт. Серафим с самого начала полемики, в противовес приземленному и политизированному воззрению оппонента, задает своей концепции Царства Божиего на земле духовный, пневматологический, экклезиологический и сакраментологический вектор. В частности, он отмечает невозможность данного человечеству Христом единения с Богом без участия Церкви, поскольку это единение происходит посредством внутренней возрождающей благодати Святого Духа, преподаваемой людям в церковных таинствах. О таком единении, по мнению святителя, можно говорить, «имея в виду не каждого человека и не всех людей, а только истинно верующих во Христа»[293], членов Церкви. Также со ссылкой на евангельские слова Спасителя о неотмирности Его Царства (Ин 18:36) наш автор опровергает мнение о. Светлова, согласно которому в состав Царства Божиего могут входить земные общества и государства: «Язычники не были вне Царства Божия <..>. Ясно, что человеческие общества или государства могут входить в состав Царства Божия на земле»[294]. Свт. Серафим подчеркивает, что применительно к Царству, дарованному людям после искупления, такое заявление некорректно: в сугубое единение со Христом человек входит в таинстве Евхаристии, но язычники не приемлют Таин Христовых и не имеют веры в Него. Главную ошибку первого определения святитель видит в смешении прот. Светловым царства, под которым подразумевается вся вселенная как область, подвластная Богу[295], с будущим Царством славы. Убедительно опровергается и ссылка оппонента в духе апокатастасиса на апостольское изречение о покорении Христу всего сущего, «да будет Бог всяческая во всех» (1 Кор 15:28), которое о. Светлов, как показывает свт. Серафим, вырывает из контекста: здесь «говорится не о всем человечестве, не о вселенной, как входящей в состав Царства, дарованного нам в силу искупительной смерти Христа, а о предании Им Своего царства Богу Отцу после истребления Им смерти и всеобщего воскресения мертвых»[296].
Второму определению – устроению совершенного порядка в природе и истории человечества – свт. Серафим противопоставляет православную эсхатологию, подтверждающуюся самой действительностью, в частности, такими негативными природными явлениями как землетрясения, наводнения, климатические аномалии и различные болезни и моры. Все это является следствием религиозно-нравственного падения людей, которые «в страстях своих перестают уже быть подобными бессловесным тварям: они уподобляются демонам»[297]. Также в мире разворачиваются политические смуты, кровопролитные войны и т. п. социальные бедствия, которым еще предстоит достичь апогея в пришествие антихриста, когда будет уничтожена третья часть человечества (Откр 9:15–18). Таким образом, по мнению нашего автора, очевиден обратный процесс – история развивается в сторону умножения человеческих беззаконий и служащих их результатом мировых катастроф[298].
Углубляясь в критику второго определения оппонента, свт. Серафим особо подчеркивает в нем слово «постепенно», показывающее, что в основе воззрений о. Светлова лежит прогрессистская утопия о «золотом веке», наступлении на земле рая вследствие мирового нравственного прогресса. Характерными здесь выступают ссылки на учение Вл. С. Соловьева из его книги «Оправдание добра», согласно которому «цель мирового прогресса есть откровение Царства Божия или совершенного нравственного порядка»[299], а также на соловьевское определение Царства Божиего в «Чтениях о Богочеловечестве»: «Царство Божие есть обнимающий собою все человечество и всю природу вселенский богочеловеческий организм, где все воссоединено со своим Божественным началом через посредство Иисуса Христа…»[300] К этим цитатам святитель добавляет и логически выводимые из них комментарии самого о. Светлова: «Нравственность человека <..>, как и все, улучшается. Нравственное зло или эгоизм <..> со временем сменится альтруизмом, и на земле наступит рай»[301], «История ведет нас к большему и большему счастию в смысле чисто эвдемонистическом»[302] и т. п. Содержащееся в приведенных словах хилиастическое учение в XX в. послужило идейной основой социализма, по убеждению нашего автора, принципиально несовместимого с христианством. Т. н. христианский социализм свт. Серафим определяет как «чудовищное учение»[303], которое распространилось в России в среде интеллигенции, не желавшей окончательно порывать с верой, но в то же время сочувствовавшей социализму.

