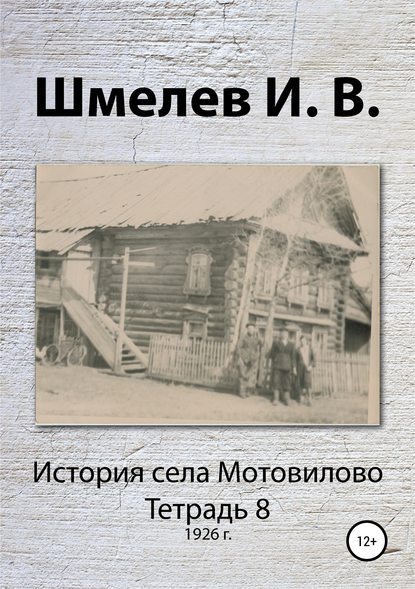 Полная версия
Полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 8 (1926 г.)
– А ещё я вам расскажу, как мы с одним моим другом, напрештова, пошли на охоту в лес. Весь день пролазили по лесу и все бестолку. Как на грех, никакой птицы, никакого зверя не встретили, как все в лесу вымерло.
– Птицы и звери охотника на большом расстоянии чуют, – заметил Ершову Лобанов Яков.
– Это, возможно, и так. Одним словом, мы чуть не до вечера прошлялись с ним тогда и не за бабочку, – продолжал Ершов, – А забрели, видимо, в такую даль, я даже ориентировку потерял. Гляжу, словно и лес-то не наш, и лес не лес, а ёлки-палки. Идем мы с ним и переглядываемся: «Знать далеконько мы с тобой забрели». Из редколесья мы вскоре угодили в такую даль, куда я редко, когда хаживал. Из редколесья, мы вскоре угодили в такую глушь-чащобу, что едва оттуда выбрались. Хотя и вдвоем, а жутковато. Слышим, а где-то в стороне ручеек журчит, мы да к нему. Подошли, а вода в ручейке, так и бежит, так и клокочет. «Это, – говорит друг мой, – Рамзай». Рамзай, так Рамзай, давай напьёмся. Напились и вздумалось нам на другом берегу этого ручейка побывать. А он все же небольшой ручеек, а широкий, даже с разбегу не перепрыгнешь. Друг-то в сапогах обутый, а я в лаптях, как обычно. «Садись, грит, мне на спину, я тебя на корточках, горшком, через воду-то перетащу». Перетащил он меня, и мы снова по лесу шлёндаем. Зверя-то ищем, а вышло, он нас подстерегал. Померещилось нам, да мы своим охотничьим нюхом по-собачьи зачуяли, где-то, вроде кто-то вроде медведя по валежнику шебуршит. Вскоре, действительно на медвежий след наткнулись. «Теперь по горячим следам его спокойно его отыскать можно», – переговариваемся мы. Ходим, прислушиваемся, принюхиваемся, на цыпочках крадемся. А выходит, мы все около того же Рамзея колесим. Изморились, я и говорю своему друг: «Давай, Гришк, спервоначалу еще раз напьёмся и примемся за поиски. – Давай», говорит он. Мы ружья приставили к сосне, припали к воде и пьем, а он тут как тут. Подступил совсем близко и на нас окрысился. Мы оба перепугались до полусмерти. Я прыг к ружью и на прицел. А Гришка с перепугу хриплым голосом выкрикнул мне: «Погоди дядь Николай, не стреляй, не пугай, не раздражнивай, мы его, может, живьем возьмём – лаптем придавим. Видишь, – грит, – он какой-то курпаный, как-то не смело ходит – сам не свой». Сказал это Гришка-то мне, а сам к нему сзади с топором (он у него за поясом был заткнут), крадется, изловчился, да как ахнет ему по боклану обухом. Медведь взвыл, повалился на землю и гачи кверху вздёрнул, а он оказался в капкане. Подошли мы к нему, видим, а задняя его нога капканом зажата и вся-то измочалена. Сколько времени он таскался по лесу с этим капканом, никто не знает, только кабы не этот капкан, нам бы с Гришкой карачун тут пришёл.
– Ну, ты Николай Сергеич в этом рассказе через дугу загнул! – заметил Ершову Сергей.
– Он не только через дугу, и через оглоблю заворотил! – не сдержавшись, подметил и Смирнов.
– Как хотите, хотите верьте, хотите нет, мое дело говорить, а ваше слушать, – невозмутимо ответил Ершов.
О чем бы не разговаривали, беседуя, мужики, а под исход беседы свернут разговор о бабах.
– А пахать-то выехали что-ли? – не обращаясь ни к кому спросил Федька Лушин не знающий и не понимающий ничего в сельском хозяйстве.
– Еще на прошедшей вербной недели выехали. Я то в день Егория Победоносца 10-го (1 апреля по-старому – Ленивая соха), свою усадьбу спахал, – известил Ершов своих товарищей по охоте, из которых лошадник только он.
– Ну как пашня? – спросил его Сергей.
– Еще сыровата, а завтра, я в поле на посев поеду.
– Тебе на сколько едоков землю-то обрабатывать придётся в этот раз? – полюбопытствовал у него тот-же Сергей.
– Своих, с тятькиными, десять, да на два едока у Дуньки Захаровой нанялся.
– Разве ты у нее подрядился уборку-то убирать? – с какой-то заинтересованностью и скрываемой ревностью спросил Смирнов.
– Конечно я, а кто кроме меня из-за двух едоков связываться будет. Ведь это дело склочное, а на два едока не совсем добыточное.
Ершов начал новый рассказ:
– Иду я, как-то посреди поста, по улице, попадается мне навстречу Дунька и говорит: «Здравствуй Николай Сергеевич. – Добрый день, отвечаю я ей. – Ты, грит, случайно, не возьмёшься у меня уборку на это лето, убирать? Посовалась, посовалась ко всем, никто не берется, из-за двух едоков никому браться не хочется. – Пожалуй!» Дал согласие я ей, а сам на уме держу свой план. Вот, думаю, где я тебя уломаю! И для формальности ее спрашиваю:
– А сколь у тебя Евдокия Ермолаевна едоков-то?
– А она, гм, как будто не знаешь: два – я да тятька.
– Ну, вот и прекрасно говорю я ей: «У меня у самого шесть едоков, в семье-то я сам – шост, да тятькиных четыре едока, да вас двое. Значит в общей-то сложности выходит всяко на двенадцать едоков земли придётся нам с моим «Голиафом» вспахать за лето и обработать. Хотя моя лошадь «Голиаф», не только на 12, а и на все 20 едоков земли обработать легко может, но нам с ним и этого за глаза хватит. Глаголю я ей обо всем об этом, а сам тайно думаю «вот удобная обстановка подваливается мне подъеферится к ней для близкого знакомства». А сам глазами так и ем ее и думаю: «около этой бабы есть чем поживиться, что на харю приглядчива, что толста – в общем, есть во что, только было бы чем, –думаю, – теперь ты в моих руках».
Иду я по дороге параллельно с ней локоть в локоть и спрашиваю:
– А когда магарыч-то пить будем?
– Чай не в пост, сейчас грех. На Пасху, – отговаривается она от меня.
– Ты, Дуньк, как-бы меня не проманула, – баю я ей. – Я ведь не только землепашец, я еще и охотник, – по-молодецки подрепетировался перед ней я.
– Знаю, знаю, что ты и до нас баб большой охотник, – подбодрила словами она меня.
– Да, есть, отчасти, – отвечаю я. – Люблю я баб особенно таких икристых, как ты!
Говорю я ей эти слова, а сам чую, ровесник мой на дыбы, и самого всего неудержимая дрожь берет.
– Нет, Дуньк, если уж мы с тобой договоримся насчёт уборки, то надо как-то это дело закрепить официально и без мугрычов тут не обойтись. Я сегодня вечерком загляну к тебе.
– Приходи, грит, только не с пустыми руками. Согласилась она, видимо, одумавшись.
– Вечером, того же дня я и залился к ней с бутылкой самогонки в кармане и с мыслями в голове: «Авось и клюнет!» Пришёл я в дом к ней, и на мое счастье, отца ее дома не было. Вот, думаю, кажется на этот раз, в самый кон попал! Ну, выпили мы с ней, и я не стерпел грешным делом, не взирая на пост, пошёл на греховодное преступление, не сдержавшись разъяренно хвать ее за щекотливое место. А она, без всякого намёка на любезность меня как лягнет в бок. Я отлетел к порогу и мгновенно весь азарт пропал, охота отпала. Про себя думаю: «Вот так тебе фунт изюму!» А лягнула-то она меня с такой прилежностью и отрывистым стуком, с каким, будучи председателем совета, Кузьма Оглоблин, ставил свою печать на деловые бумаги. Лягнула, да и говорит мне: «Ты что же такой-сякой в пост надумал. У тебя, грит, видимо здесь-то не хватает, а тут уж не займешь! – похлопывая при этих словах себя по лбу и по заду. Я ей говорю: А ты не рыпайся и не брыкайся, как опоённый теленок, знаю, ведь ты в охоте и я в коренном прыску! А она ни в какую, виль хвостом и в чулане скрылась. Ну, думаю, попадёшься ты мне где-нибудь в узком месте, сустигну я тебя, тогда ты от меня не вырвешься, я с тебя с живой не слезу! Я не таких обламывал! И отшвырнув в голове эту мысль в сторону, отложив дело до Пасхи. Стал собираться домой, да в растерянности вместо соей шапки, рукой ухватился за кошку, которая преспокойненько спала на лавке свернувшись клубочком так, что точь-в-точь моя шапка и по величине, и по цвету шкурки. А шапка-то моя оказалась на гвозде, я цап ее, и на выход задал тягу. Иду домой и думаю: вместо «орла», получилась «решка».
– Эх, ты, чучело гороховое, – ревностно обозвал Ершова Смирнов. – Она, по-моему, тебе понюхать не разрешит, а ни только что! – добавил Смирнов.
А дело то в том, что Смирнов, частенько сам заглядывал к Дуньке, покупал у нее самогон и имел с ней самые тесные связи, потому-то, пока Ершов хвастался, глагольствовал о своем желании склонить Дуньку к любовным взаимоотношениям, Смирнов терпеливо ждал, не перебивал Ершова во время его рассказа, а ждал, чем этот рассказ кончится. Смирнов внутренне возненавидев Ершова стал всячески стараться, как бы его опозорить перед людьми, изысканно обозвать, и укротить его ярый пыл, и будучи человеком на все увертливым, искал момента, как бы подтрунить, подыграть над простачком и наивным Ершовым. Изощрённо обзывая Ершова, Смирнов доводил своего тёзку, до полного исступления и позора, с оскорблением его человеческого достоинства. Люди, конечно, поощряя находчивость в виртуозном словоизлиянии Смирнова, душевно смеялись, а Ершов терпеливо сносил на себе порочащие слова Смирнова, иногда добродушно улыбаясь.
– Куда уж тебе со своим кувшинным рылом к Дуньке соваться, да у тебя на харе-то, черти горох молотили, что-ли? – продолжая издевательски обзывать Ершова и с новой силой обрушился на него Смирнов, высказывая этим жгучую ревность за Дуньку и уничтожающую ненависть к Ершову. А Ершов, не зная и не подозревая связей Смирнова с Дунькой, как бы дразня его и разжигая в нем пышущую ревность, продолжая разговор о своем неукротимом желании овладеть Дунькой, продолжал свое изречение:
– Лучше бесплатно её землю все лето пропашу, а своего добьюсь, – горделиво высказался Ершов.
– А, по-моему, это, будет одна проволочка, – с сомнением заметил Сергей.
– Проманежит она тебя, – и в адрес Ершова пустил насмешливую насмешку: «Понапрасну Колька ходишь, понапрасну лапти бьешь, ничего ты не получишь, в дураках домой пойдёшь!»
– Ну, это еще посмотрим «сказал слепой», – отпарировал на это Ершов.
– Эх ты, куль с головой! – снова напал на Ершова Смирнов.
– И откуда, у тебя Николай Сергеич, на баб, такая ярь берется? – спросил Ершова Лобанов.
– А вы рази не знаете?
– Нет, не знаем, скажи! – вступил в разговор и Федька Лушин.
– Эх, ребята, ребята, как будто вы маленькие, как и не со взрослыми за столом-то обедаете. Я по целому десятку сырых яиц выпиваю, да овсяную кашу ем.
– А сколько в твоем хозяйстве кур-то? – полюбопытствовал Сергей.
– С дюжину имеется! – невозмутимо соврал Ершов. На самом же деле, во дворе у Ершовых живут всего три захудалых курицы и те престарелые, да ободранный без хвоста петух.
– Эх, ты, наверное, и врать горазд! Нас всех обхитрить хочешь, – заметил ему Сергей, зная правду о его захудалом хозяйстве.
– За вранье стараются получить что-то, а я с вас плату не взимаю, значит, говорю правду! – шутливо отговорился Ершов.
– Все равно хитришь. – вставил Смирнов.
– Я думаю, ты тёзк, на меня не обижаешься, ведь мы с тобой оба Николая, оба заядлые охотники, да видать, ты ещё, как и я, бабник несусветный. Так давай вместе спаримся в этом деле и будем вдвоем к бабам-вдовам похаживать. Заведём себе сударушек и будем по-тихому к ним похаживать. Лафа! – простодушно предложил Ершов Смирнову.
– Что ты сказал? Нужен ты мне как в сенокос вареник! Да ты знаешь, я с тобой на одном поле не сяду! С тобой разве можно секреты держать, ты сразу хвалебно все выболтаешь. На это Ершов притворно всплеснул руками и удивленно присвистнув, протянул:
– Да, ну!
– Вот тебе и «Ну», на хрену кокурки гну! Ты не так свистишь. Надо, два пальца в рот, третий в зад и свистеть! – скороговоркой, как палкой по забору, пробарабанил Смирнов. На что Ершов причудливо трумкнув губами, забывчиво высунув кончик языка.
– Что язык-то вывалил, или новый купил? – заметив и это, уличил его Смирнов.
– Ты, Николай Федорович, я гляжу, больно возгордился, возомнил о себе «кто я!», богатым стал, ни с кем знаться не хочешь! – стараясь к примирению, заметил Ершов Смирнову.
– С тобой, что ли знаться-то! Я, с такими, кто по-банному крытый, действительно знаться не хочу. Ты пока собираешься слово сказать, и разиня рот, протяжно выкаешь, ртом ловишь воздух, как рыба вялый карась на берегу. А врать! Тебя только слушай! Эх ты, дупло осиновое, прясло, седло коровье! – наделял непристойными словами Смирнов Ершова. На что Ершов особенно не обижался, а только наивно улыбался.
– Что ты скалишься! Да и вообще-то, ты Ершов, как ни хвались, как не выставляй из себя, мне сдается, что тебя делали на бабу. И фигура у тебя похожа на бабью, и походка у тебя бабья, видно хотели сделать бабу, а получился неудачный мужик!
Оскорблённый и огорошенный такими позорными словами, Ершов опешил, он в некоторой растерянности приумолк, незаметно для себя повысунул язык, глазами притуплено устремился вдаль, едва слышно произносил: «вали, вали, – тебе идёт!». Губы его едва шевелились, звуки были едва слышны. Он был до глубины души оскорблен, его человеческое достоинство незаслуженно унижено перед сидящими здесь людьми.
– А ты не будь бабьей-то прорехой, не шепчи, а говори громче. Пошарь во лбу-то, не спишь ли! – не отставая наседал на него Смирнов.
Обиженный Ершов, сидел млея, не шевелясь и не шелохнувшись, видимо он в уме, что-то тайно мыслил и придумывал, чем бы возразить Смирнову, и он надумав, сказал:
– Как хошь меня позорь, а ко мне слова твои не пристанут, а тебя, тёзк, в дальнейшем попрошу меня не порочить. Не омрачай мою личность!
– Эх, что-то горько запахло! – встрепенулся Лобанов.
– Где-нибудь что-нибудь горит, – спокойно проговорил Ершов.
– Погляди-ка, у тебя из кармана дымит, – заметил Лабин.
Это Смирнов когда-то угодил положить Ершову в карман окурок. Потушив тление кармана, Ершов обидчиво поразинув рот, посмотрел ввысь.
– Что рот-то разинул, ай ворон считаешь!
– Вон утки летят.
Пашня и сев. Великий четверг. Выгон скота
В этот год мотовиловцы пахать выехали в понедельник на Страстной неделе. Небывалое половодье оттянуло пашню и сев. Особенно-то мужики не горевали – под яровые в этом году пришёл черед быть малому полю, между селом и лесом. Это поле в пашне и севе долго не задержит, так, что мужики не особенно спешили. А Онискино поле, за Серёжей около лесного урочища Дерябы, из-за того, что и теперь оно еще не совсем очистилось от воды, мужики решили засеять и после Пасхи.
Василий Ефимович с Ванькой допахивали широченный в 10 сажен загон за поперечной дорогой не вдалеке от леса. Солнце ласково пригревало землю, от только-что вспаханной земли тянется волнистая испарина, в поднебесьи весело напевал свою неугомонную песню жаворонок. Василий Ефимович, разувшись из лаптей, начал пахать босиком – любит он затвердевшими подошвами своих больших в следу ног, шагая по своей борозде, ощущать приятную прохладу, и не ощущал колкости прошлогодней стерни пригретой солнышком земли. Вообще, в части тепла, он имеет свою, присущую ему, манеру: любит зимой избное тепло, но лежа в постели ночью, выставляет из-под одеяла ноги, чтобы скорее заснуть, плохо переносит летнюю жару, любит летний прохладный денек, не переносит жаркую баню – никогда не парился, не любит, есть слишком горячую пищу, любит пахать босиком, но не расстается со своим стареньким, с пружинкой и с промасленным от пота пятном посередине картузом. Хотя этот его картуз и старенький (готовый отпраздновать двадцатилетний юбилей своей службы), но он и поныне надёжно прикрывает Васильеву голову от дождя и мучительного зноя. Следом за пахарями, перелетая с места на место, и громко крича, по борозде важно и хлопотливо шагали грачи. Они деловито обглядывали каждый комок только что вспаханной земли и подбирая выпаханных червей заглатывали их.
Василий Ефимович, стараясь не оставить, а как можно припахать лишнюю пядь земли к своему загону, проезжал плугом последний заезд. А кончив пахоту, лошадь подпустил к телеге, где Серый со звонким стуком груздилами о телегу, охотно принялся за насыпанный ему овес.
– Давай и мы перекусим, уж потом начнём сеять, – сказал отец Ваньке.
Разрезав пополам традиционную, «благовещенскую просвирку», половину отдав Ваньке, а вторую, перекрестившись съев сам. Отец приказал Ваньке открыть кошель, и они занялись обедом. Поев постно и наспех, отец, насыпав из мешка в лукошко отсортированного овса, принялся рассевать. Размеренно и широко шагая по пахоте, он размашисто махал руками, раскидывая зерно по неровности вспаханной земли, широченной горстью забирая в лукошке полные, как надутые зерна овса, он бросал их перед собой. Часть зёрен, каждый раз, вылетая из горсти, со звуком шебуршала о лукошко – каждый раз получалось: чвик, чвик, чвик….
Вернувшись с другого конца загона и обсеяв межу, отец крикнул Ваньке: «Зацепляй борону и начинай боронить».
Ванька отвёл Серого к бороне, зацепив её и расправив вожжи принялся боронить. Серый с неохотой оторвавшись от телеги с овсом, кося глазами на телегу, пережевывая остатки овса во рту, слюняво хлопал губами, роняя незаглоченный раздробленный овес. Закончив сев и боронбу этого загона, Савельевы уже собирались переезжать в другое место, на другой загон. Василий стал на этом загоне делать мету «глаголь».
Внезапно из норы выбежал суслик, врасплох Василий испуганно вздрогнул и стал гоняться за зверьком, преследуя его притопывать ногами.
– Чего делаешь, Ефимыч! – окликнул Василия, мимо проезжающий на телеге с плугом, Иван Васильевич Трынков.
– Ты разве не видишь – межу! – сохвастал Василий Ефимович.
– Ну, тогда Бог-помочь! – крикнул ему Трынков.
– Бог спасет! – с затаённой улыбкой ответил Василий.
– Ты чего на этом загоне посеял? Овёс, что ли? – приостановив лошадь, спросил Иван.
– Да, овёс! А что?
– Пора, пора, на берёзах почки распустились, пора и овёс сеять, – упомянув о народной примете, отозвался Иван, – Я еду вон к лесу, там загон у меня концом прямо в бор уперся. Думаю, тоже овсом посеять, – деловито рассуждая, тронул с места свою жеребую кобылу и поехал Иван.
Вся страстная неделя пора хлопотливой и деятельной подготовки к торжественному празднику Пасхе. Бабы отговев на Вербной неделе, всю эту неделю в работе и беготне, даже поесть некогда. Собравшись небольшими артельками, они готовят к празднику свое жилье – избу перво-наперво капитально моют внутри: потолок и стены, продирая все это хвощём с мылом, а под исход недели обклеивают стены обоями и белят печи.
У Савельевой семьи хлопот полон рот, почти вся семья занята обклейкой красивым рисунком обоями верхней комнаты. Изба обширна, стены, площадисты, ушло 12 катков.
Из-за того же, необычного, в этом году, половодья, вязкая земля оттянула и выгон скота. Коровы, стоя во дворах и хлевах, тоскуя о воле, горланисто орали, просились наружу. Выгон назначили на Великий четверг. В этот день пахать в поле не выезжали: скотину и лошадей, по традиции и по религиозным обрядам, который считают необходимым, в первый раз проводить в стадо, под водосвятный молебен. Как говорится: «С Богом все начинай, с молитвой кончай! Без Бога ни до порога! Егорий да Влас – над добром и скотиной глаз!»
С Крестным ходом, с иконами, хоругвями, под колокольный звон, на выгон скота, в Великий четверг, вышли на Главный перекрёсток, где был отслужен молебен водосвятием. Под водоокропление люди гнали свою скотину первый раз, провожая в стадо, в поле к Серёже.
Запостившись за пост, люди заметно притощали. Говенье поприжало животы. Люди заметно стали сердитые. Парни и девки и то испортились: они говели на Вербной неделе, постная еда и служба поубывили веселье и задор.
Устинья Демьянова, за пост, посердела, пожалуй, больше всех. Гоня в стадо свою козу, она ни с того, ни с сего, с руганьем обрушилась на Стефаниду Батманову.
– Куда ты прешь! Ты, рази не видишь, я козу гоню, а ты со своей коровой тут лезешь. Ты видишь твоя корова на мою козу ухмыляется, запырять хочет, а ты с ней лезешь тут! – бранилась Устинья на Стефаниду.
– Чай улицы-то всем хватит, ты козу гонишь, а я свою корову гоню – улица-то для всех сделана! – невозмутимо оправдывалась Стефанида, гоня свою корову вербой.
Главная улица и Мотора загрудились скотиной. Село огласилось горластым коровьем мыком, пронзительным визгом поросят, блеянием овец и коз, жалобно призывным блеянием ягнят-глупышей, которые отбившись в общей кутерьме от взрослых овец и потерявши своих матерей, бестолково носились по улице отыскивая матерей. Коровы, после зимнего застоя, недоверчиво обнюхивая друг друга – знакомились. Некоторые агрессивно пробовали пыряться. Телята голосисто мычали, глупо взбрыкивая, бегали взад-перед мимо торжествующей толпы, где происходил молебен. Сводить под водосвятное окропление лошадь, Василий Ефимович поручил Миньке. Выведенный из хлева, отстоявшийся за ночь, сытый Серый гулко затупотал копытистыми ногами, по чисто выметенному двору, а выйдя на улицу, втянув в себя весенний воздух, самодовольно всхрапнув в полголоса игогокнул, весело зашагал за молодым хозяином, который вёл его вповоду. Как бы пробуя свою силу, Серый, временами пружинисто поднимал кверху голову – поводом оброти отрывая Миньку от земли. Откуда ни возьмись, Митькин «Барбос» внезапно бросился на Серого с лаем. Серый испугавшись взбрыкнул ногами, зафыркал, обеспокоенно бросившись в сторону, старался вырваться из рук Миньки, чуть не свалив его с ног, но Минька устойчиво на ногах удержался и ещё крепче вцепился в поводок. Дойдя до Лабиных, видит Минька, как из ворот их двора, Яша тоже выводит своего Карего с гордо изогнутой сытой шеей, с густой раскинутой на обе стороны гривой. Яша, пристроившись к Миньке, вел своего Карего следом за Серым. Серый, чуя близость себе подобного, успокоился, пошёл мерным шагом. Минька с Яшей, смиренно и гордо, провели своих лошадей вблизи священства. Поп Николай, зная обоих их, из каких они семей, с особым усердием, деловито взмахнув кропилом, обильно обрызнул святой водой и Миньку с Серым, и Яшу с Карим. Минька с Яшей, после окропления, повели своих лошадей домой к своим дворам, а около священства, проходили все новые и новые сопровождающие лошадей, и коров. Поп, размахивая кропилом, старался добрызнуть до отдаленно проходящей скотины.
Последними под благословение и окропление священника, подошли пастухи, они из села скотину погнали на гон. Гон – это широкая прямая дорога, проложенная от села до леса, специально предназначенная для гона мелких и крупных табунов скота к реке Серёже и в лес. А, чтобы скотина не уходила на посевы, гон с обоих сторон огорожен изгородью пряслами.
Вечером, в тот же Великий Четверг, проходила служба с чтением двенадцати евангилиев. Облачая, бывшего ученика Иисусова, Иуду в чудовищном предательстве за тридцать серебряников своего учителя, на хорах запели уныло, жалобно и скорбно: «Алилуиа! Алилуиа! Алилуиа! Егда Славний ученицы, на умовении вечери просвещахдся. Тогда Иуда зло честивый сребомобием недугови омрачахуся. И беззаконным судиям тебя правденого судию предает!..»
Далее в чтимых Евангелиях, подробно излагается об осуждении Иисуса на Крестную смерть, за то, что он открыто и всенародно учил народ истине, называл себя царем Иудейским, сыном Божиим и обещал разрушенный храм в три дня воздвигнуть другой нерукотворный. Задумав погубить Иисуса, иудеи, прибегнув к лжесвидетельству, потребовали от правителя Пилата, осуждения Иисуса на смерть. Иисуса распяли на кресте, где он и умер. С креста его сняли и похоронили во гробе, высеченном в скале. Великая Пятница и великая Суббота, у людей были посвящены целиком особому посту и деятельной подготовке к Пасхе.
А у Савельевых стены верхней комнаты они обклеили красивыми обоями: по голубому тону цветы белой лилии, подобие расставленных по столу на блюдцах чайных чашек. Заканчивалась обклейка стен в избах обоями, а в субботу заканчивались последние приготовления: побелка печей, развешивание занавесок, картин и разного рода украшений внутренностей избы.
По приказанию отца Ванька Савельев, выкрасил имеющиеся три дивана, выволочив их на улицу на солнышко, вымазал дегтем всю семейную кожаную обувь и подмёл около своего дома. Под вечер семья Савельевых вымылась в бане – работа закончилась.
– Вот и опять до «Святой» дожили – завтра Светлое Христово воскресение – Пасха Святая! Разговеться! Целую неделю праздновать будем, – благоговейно объяснила бабушка Евлинья своим внучатам.
А мать, Любовь Михайловна уже хлопочет о завтрашнем пасхальном тесте. Из творога готовит сладкую пасху, варит в луковичной скорлупе яйца, чтоб окрасились. Скоромный запах разносится по всем избам, соблазнительно раздражает нюх, особенно у ребятишек, которые с наслаждением полакомились бы скоромной пищей, но взрослые строго напоминая им, останавливают их от соблазна:
– Сегодня пост, грех, вот завтра Пасха, разговеется! Все это будем есть за столом.
И ребятишки, слушая назидательные слова старших, слушаются их и не помышляют нарушить традиций христианства, разумных законов религии, терпеливо ждут завтрашнего дня, самого радостного, весёлого и светлого дня Святой Пасхи.
Пасха. Обзор с колокольни. Звон

