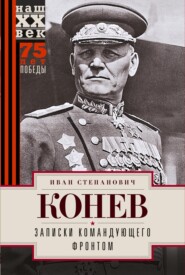
Полная версия:
Записки командующего фронтом
Переданная нам из Резервного фронта 32-я армия под командованием генерала С.В. Вишневского оборонялась на рубеже Днепра. Установив связь с Вишневским, я дал ему указание при выходе из окружения координировать свои действия с командующим 19-й армией генералом М.Ф. Лукиным. На него была возложена задача объединить действия всех окруженных западнее Вязьмы войск и, организованно отражая натиск врага, пробиваться на восток в направлении либо Сычевки, либо Гжатска. Командующему 20-й армией Ершакову было дано указание пробиваться в юго-западном направлении, с выходом на тылы немецкой группировки, которая к этому времени главными силами выдвигалась в район Вязьмы.
Принимая решение на выход из окружения, мы ставили задачу ударными группировками армий прорвать фронт противника в направлении Гжатска, севернее и южнее шоссе Вязьма – Москва, не соединяя армий в одну группировку и не назначая сплошного участка прорыва. Нашей целью было не позволить врагу сужать кольцо окружения и, имея обширную территорию, маневрировать силами, сдерживать активной борьбой превосходящие силы противника. Конечно, борьба в окружении – сложная форма боя, и, как показал опыт войны, мы должны были готовиться к такому виду действий, чего, к сожалению, перед войной не делалось. В маневренной войне такая форма борьбы не является исключением, ее не исключает и современное военное искусство.
Как явствует теперь из немецких трофейных документов, а также из доклада командарма Лукина и донесений того периода, упорные бои и активные действия наших войск, попавших в окружение, оттянули и сковали значительные силы немцев, нацеленные на Москву. В окружении наши войска продолжали вести ожесточенные бои, отбивая непрерывные атаки противника.
К 9 октября войска правого крыла Западного фронта (22, 29 и 31-я армии) с ожесточенными боями отошли на рубеж Селижарово, Ельцы, Оленино, Сычевка. Здесь отход войск проходил более организованно.
Во время смены командного пункта фронта в ночь на 6 октября мы с членом Военного совета фронта Н.А. Булганиным прибыли в район Гжатска и первым делом решили встретиться с командующим Резервным фронтом маршалом С.М. Буденным. Командный пункт Резервного фронта размещался в блиндажах в лесу восточнее Гжатска. Однако Буденный находился в поселке, на окраине Гжатска, в небольшом домике под прикрытием танка КВ.
Мы прибыли к нему в штаб, с тем чтобы сообщить о сложившейся обстановке и узнать о мерах, которые принимает командование Резервного фронта в связи с тяжелым положением, создавшимся на участке 43-й армии. По имевшимся у нас данным, полученным из Генштаба, на втором рубеже в районе Сычевка, Гжатск должна находиться 49-я армия Резервного фронта. Но, как выяснилось в разговоре с Буденным, 49-я армия к этому времени уже была погружена в эшелоны и отправлена на юго-западное направление. Таким образом, 49-я армия, находившаяся на Вяземском оборонительном рубеже за сутки до наступления главных сил группы армий «Центр», за сутки, повторяю, была снята и переброшена на юг. Никаких войск Резервного фронта на рубеже Гжатск – Сычевка не оказалось.
К.К. Рокоссовский с управлением 16-й армии в это время уже сосредоточился в районе Гжатска. Связавшись со мной, он доложил, что 50-я дивизия двумя полками и артиллерийским полком вышла к Вязьме, остальные силы этой дивизии отрезаны противником. Рокоссовскому было приказано принимать в свое подчинение все части, выходящие с запада к рубежу Гжатска, и те, которые будут подходить с тыла, в частности прибывшие из резерва Ставки в район Уваровки две танковые бригады, и организовывать оборону на рубеже Сычевка – Гжатск и южнее.
Штаб Западного фронта с разрешения Ставки был переведен в район Красновидово западнее Можайска. На новый командный пункт 10 октября прибыли из Ставки В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.М. Василевский и др. По поручению Сталина Молотов стал настойчиво требовать немедленного отвода войск, которые дерутся в окружении, на гжатский рубеж, а пять-шесть дивизий из этой группировки вывести и передать в резерв Ставки для развертывания на можайской линии. Я доложил, что принял все меры к выводу войск еще до прибытия Молотова в штаб фронта, отдал распоряжение командармам 22-й и 29-й армий выделить пять дивизий во фронтовой резерв и перебросить их в район Можайска. Однако из этих дивизий в силу сложившейся обстановки к можайской линии смогла выйти только одна. Мне было ясно, что Молотов не понимает всего, что случилось. Требовать во что бы то ни стало быстро отводить войска 19-й и 20-й армий было по меньшей мере ошибкой. Но для Молотова характерно и в последующем непонимание обстановки, складывавшейся на фронтах. Его прибытие в штаб фронта, по совести говоря, только осложняло и без того трудную ситуацию.
Историки, работая над материалами о битве под Москвой, неизбежно задаются вопросом о причинах тяжелого положения, в которое попали наши войска на московском направлении в начале октября 1941 года. Мне хотелось бы кратко изложить свое мнение об этом.
Во-первых, стратегическая инициатива на всем советско-германском фронте в то время находилась в руках противника. Враг имел подавляющее превосходство в силах и средствах, особенно в танках и авиации, которая все время бомбардировала отступающие войска. Очень ярко это отражено в донесении командующего 32-й армией С.В. Вишневского от 7 октября 1941 года. В нем говорилось, что основной причиной неудач является губительная беспрерывная бомбардировка наших войск авиацией противника, отсутствие у нас зенитных средств. Аналогичное положение было и в других армиях.
Во-вторых, враг обладал большим преимуществом в подвижности, мог широко маневрировать. У нас же не было достаточного количества авиации и противотанковых средств, чтобы бить вражеские колонны на марше и оказывать им сопротивление на основных дорогах.
В-третьих, Западный фронт не имел достаточного количества вооружения, боеприпасов и боевой техники. Артиллерийская и танковая плотность на 1 км была очень слабой: танков – 1,6, орудий – 7, противотанковой артиллерии – 1,5, запасы боеприпасов к началу наступления противника в некоторых частях и соединениях составляли около половины боекомплекта и в очень немногих частях – до 2 боевых комплектов.
В-четвертых, Западный фронт был очень растянут. Обороняющиеся части имели большой некомплект личного состава, а в глубине фронт не располагал достаточно сильными резервами.
В-пятых, один прорыв к Вязьме с севера еще мог быть нами локализован путем перегруппировки войск. Но прорыв немецко-фашистских войск через Спас-Деменск дал возможность соединениям противника выйти с юга глубоко в тыл Западного фронта. Резервный же фронт на этом направлении резервами не располагал. К этому надо добавить, что в полосе Резервного фронта передний край обороны, занимаемый 43-й армией, оказался очень слабым, с недостаточно развитой глубиной обороны и недостаточным количеством артиллерии и танков. В оперативной глубине обороны на Гжатском рубеже также не было войск, так как 49-я армия Резервного фронта уже в ходе Московского сражения была переброшена на юго-западное направление.
Возникает вопрос: почему противник, добившись в начале октября 1941 года немалых успехов, не сумел развить наступление на Москву? Прежде всего потому, что войска Западного фронта оказали ему ожесточенное сопротивление. Они дрались мужественно, самоотверженно и стойко. Ценой жизни они спасали столицу своей Родины – Москву.
Несмотря на тяжелую обстановку, нашим войскам, действовавшим на московском направлении, предстояло любой ценой задержать противника, чтобы выиграть время для организации обороны на Можайском рубеже и дать возможность развернуть подходившие из глубокого тыла резервы. И они эту задачу выполнили.
Уже после войны я читал директиву группы армий «Центр» от 15 сентября 1941 года № 1340/41. В ней обращалось особое внимание на то, что «при отступлении противника с занимаемых позиций наши войска должны немедленно преследовать его». То есть имелось в виду полнее использовать неблагоприятную обстановку отхода советских войск. Но гитлеровцам это не удалось. На Можайском рубеже и в окружении под Вязьмой наши войска своим упорным сопротивлением задержали на 8–9 дней вражеские ударные группировки и обеспечили время для проведения необходимых мероприятий по дополнительному усилению обороны московского направления.
Двадцать восемь дивизий группы армий «Центр» были втянуты в сражение против окруженных войск, что документально доказано картами, захваченными у немецкого командования. Именно благодаря героическому сопротивлению наших войск необходимых сил для развития ударов на Москву у врага в тот момент не оказалось. В боях в районе Вязьмы он понес тяжелые потери. Есть, например, прямые показания командира 7-й немецкой танковой дивизии, который в своем донесении командованию открытым текстом сообщает: «Натиск Красной армии в направлении Сычевки настолько был сильным, что я ввел последние силы своих гренадеров. Если этот натиск будет продолжаться, мне не сдержать фронта и я вынужден буду отойти». Есть много и других фактов и документов, свидетельствующих о героизме и доблести войск, попавших в окружение. Войска 19, 20, 32 и 24-й армий – это воины-герои, и перед ними все мы склоняем головы.
Я вспоминаю донесения находившегося в окружении командарма 19-й генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Лукина: «Войска дрались до последнего солдата и до последнего патрона». А сам он в бессознательном состоянии, раненый, был взят в плен, в плену не поддался никаким соблазнительным предложениям, держался мужественно и стойко. Героизм Михаила Федоровича в боях в период окружения, его поведение в плену достойны самой высокой похвалы. Об этом еще нужно и должно сказать и в исторических исследованиях, и в художественной литературе. Генерал Лукин рассказывал мне, что 19-я армия с начала наступления немцев, то есть с 2 по 13 октября, не была расчленена на части и в самые тяжелые дни сохранила свою целостность, а с 13 октября она по приказу Военного совета фронта стала выходить из окружения отдельными группами на участке 20-й армии.
Героическое сопротивление наших войск в районе Вязьмы задержало наступление противника на Москву. Это позволило Ставке сосредоточить силы на Можайском рубеже и дать отпор врагу. К середине октября на рубеж Можайск, Малый Ярославец начали подходить резервы Ставки. В то же время из состава Западного фронта туда с боями отходили избежавшие окружения дивизии Западного и Резервного фронтов, а также части и соединения, вырвавшиеся из вражеского окружения. Забегая несколько вперед, хочу сказать, что в течение октября на московское направление отошли войска 15 дивизий и на калининское – 17 дивизий.
К 10 октября стало совершенно ясно, что необходимо объединить силы двух фронтов – Западного и Резервного – в один фронт под единым командованием. Собравшиеся в Красновидове на командном пункте Западного фронта Молотов, Ворошилов, Василевский, я, член Военного совета Булганин (начальник штаба фронта В.Д. Соколовский в это время был во Ржеве), обсудив создавшееся положение, пришли к выводу, что объединение фронтов нужно провести немедленно. На должность командующего фронтом мы рекомендовали генерала армии Г.К. Жукова, назначенного 8 октября командующим Резервным фронтом. Вот наши предложения, переданные в Ставку:
«Москва, товарищу Сталину.
Просим Ставку принять следующее решение:
1. В целях объединения руководства войсками на западном направлении к Москве объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.
2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.
3. Назначить тов. Конева первым заместителем командующего Западным фронтом.
4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета Западного фронта.
5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18 часов 11 октября.
Молотов, Ворошилов, Конев, Булганин, Василевский. Принято по бодо 15.45. 10.10.41 года».
С этим предложением Ставка согласилась, и тотчас же последовал ее приказ об объединении фронтов.
Ночью 12 октября мы донесли в Ставку о том, что я сдал, а Жуков принял командование Западным фронтом.
Военный совет фронта, обсудив создавшееся положение, решил, что мне следует отправиться на калининское направление и объединить там руководство боевыми действиями 22, 29, 30 и 31-й армий Западного фронта. Дело в том, что, когда часть войск фронта попала в окружение, главная ударная группировка противника, левая клешня, если так можно выразиться, куда входили 3-я танковая группа Гота (он потом был заменен Рейнгардтом), 9-я армия Штрауса, преодолев сопротивление наших войск на рубеже Сычевка – Ржев, устремилась на Калинин. Гитлеровское командование планировало глубокий обход Москвы с северо-запада.
В районе Калинина наших войск почти не было, не было даже частей ПВО для прикрытия города.
Калининский фронт
Рано утром 12 октября я выехал в Калинин через Москву и прибыл туда к вечеру. Вражеская авиация безнаказанно бомбила город, совершенно не защищенный с воздуха. В отдельных местах полыхали очаги пожаров. Никаких войск здесь и поблизости не было. В распоряжении облвоенкома имелся лишь истребительный батальон, сформированный из коммунистов Калининской городской партийной организации. Однако личный состав батальона не располагал оружием. По городу распространялись панические слухи. Говорили, что севернее и восточнее Калинина высадились немецкие парашютисты.
По прибытии в облвоенкомат я увидел во дворе большое скопление членов семей военнослужащих, которые требовали немедленно эвакуировать их в тыл. Страх перед выдуманными парашютистами, бомбежки и пожары драматизировали обстановку.
Между тем, узнав, кто я, скопившиеся у облвоенкомата люди еще настойчивее стали требовать эвакуировать их. Чтобы хоть немного успокоить взволнованных и перепуганных женщин и детей, я приказал облвоенкому срочно принести мне в его кабинет кровать и немедленно объявить, что генерал-полковник ложится отдыхать. Может, это было и не очень убедительно, но я хотел показать, что положение не безнадежное, раз не собираюсь уезжать и даже ложусь здесь спать. И подействовало! Шум прекратился. Собравшиеся в помещении и во дворе начали расходиться. Я лежал, укрывшись одеялом, и напряженно думал, что же мне предпринять как можно быстрее.
Вскоре встретился с И.П. Бойцовым и другими членами обкома партии, сообщил им, что обстановка очень серьезная, и потребовал принять срочные меры для эвакуации города, в первую очередь банков, государственных ценностей, важных документов. Следовало немедленно, по тревоге, мобилизовать областную и городскую партийные организации, эвакуировать население, создать отряды ополчения и подготовить город к обороне.
Из обкома поехал на вокзал, чтобы задержать 5-ю стрелковую дивизию 22-й армии, которая, по ранее отданному мною приказу, должна была следовать железной дорогой в район Можайска. Эта дивизия в предыдущих боях понесла потери, но еще не утратила боеспособности. У нее имелись артиллерийские подразделения и небольшое количество танков. Установил, что части дивизии должны прибыть в район Калинина на следующий день.
На рассвете вновь побывал в обкоме и убедился, что команда на эвакуацию отдана. На восток и частично на север по мосту через Волгу уже тянулись обозы, торопливо шли люди, на подступах к городу начинались оборонительные работы.
Прибыв на вокзал, очень удачно встретил там эшелон со штабом 5-й стрелковой дивизии и комдива подполковника П.С. Телкова, которому приказал тотчас же разгрузить в Калинине все прибывшие части и занять оборону фронтом на запад и северо-запад. Потом разыскал командующего 30-й армией генерал-майора В.А. Хоменко. Приказал ему включить 5-ю стрелковую дивизию в состав его армии, а остальными войсками не допускать наступления противника по Московскому шоссе на Клин.
Отдав эти распоряжения, не теряя ни минуты, на большой скорости проследовал в 22-ю армию генерала В.А. Юшкевича, действовавшую на селижаровском направлении. На фронте этой армии обстановка была более-менее спокойной. Потребовал от командарма перебросить автотранспортом в район Калинина 256-ю стрелковую дивизию генерала С.Г. Горячева и занять ее частями оборону по восточному берегу Волги с задачей не допустить наступления противника по Бежецкому шоссе на Бежецк и Ярославль. Мы, конечно, учли и то, что излучина Волги в Калинине, – здесь река поворачивает с северо-запада на юг, – могла быть использована как хороший оборонительный рубеж.
Далее мой путь лежал на юг, в Ржев, где находился штаб 29-й армии генерала И.И. Масленникова. Армия активных действий, по существу, не вела и могла, прикрывшись незначительными силами, перегруппироваться и нанести удар с запада в тыл противнику, наступавшему на Калинин. Это я и приказал сделать Масленникову. Замысел сводился к следующему: рокировать 29-ю армию с северного на южный берег Волги и, наступая вдоль берега на восток во взаимодействии с группой генерала Ватутина и 256-й стрелковой дивизией, ударить по тылу вражеской группировки, прорывавшейся к Калинину. Быстрое и четкое выполнение этого маневра неизбежно, по моему мнению, остановило бы противника, наступавшего на Калинин с юга. Но Масленников, видимо не разобравшись в обстановке, не выполнил поставленной задачи, тайно обжаловав мое решение имевшему с ним связь Л.П. Берии. Об этом я узнал только после войны, когда был председателем суда над Берией.
Вопреки моему распоряжению он двинул армию северным берегом, решив переправиться на южный берег у Калинина, притом сослался на разрешение генерала армии Г.К. Жукова, но командующий фронтом вряд ли мог отменить мой приказ, не поставив в известность меня, находившегося непосредственно в этом районе. Так или иначе, намеченный и реально возможный удар не был осуществлен.
Обстановка обострилась до крайности. Спешно стянутые к Калинину и явно недостаточные силы наших войск еще не успели полностью оборудовать оборонительные позиции, а крупная группировка врага подошла уже к городу. 14 октября соединения 41-го механизированного корпуса 3-й танковой группы противника при поддержке авиации отбросили части нашей 5-й стрелковой дивизии и ворвались в Калинин с юго-запада.
Заняв город, враг сразу же двинул часть сил по шоссе на Торжок, но столкнулся с подошедшей 8-й танковой бригадой Ротмистрова. Завязался встречный бой, в результате которого противник был остановлен у Горбатого моста. Наши танкисты перешли к обороне, оседлав шоссе Калинин – Ленинград.
Одновременно вражеские войска устремились из Калинина по дороге на Бежецк. Но здесь уже заняли оборону части 256-й стрелковой дивизии. Действуя решительно, они не допустили переправы противника на восточный берег Волги.
Гитлеровцы развернули наступление и на юг по Московскому шоссе. Однако и тут им не удалось развить успех. 5-я стрелковая дивизия и другие части 30-й армии под командованием командарма В.А. Хоменко в упорном бою остановили противника. Особенно отличились артиллеристы, подбившие несколько фашистских танков и автомашин с мотопехотой.
Дальнейшие действия врага, овладевшего юго-западной частью Калинина, были локализованы. В ходе ожесточенных боев войска остановили противника на всех направлениях.
Северо-западнее города Ленинградское шоссе удерживали 8-я танковая бригада и другие части группы генерала Ватутина. С запада подходила 29-я армия генерала Масленникова. С востока на берегу Волги оборонялась 256-я стрелковая дивизия. Южнее на Московском шоссе сражались части 30-й армии генерала Хоменко. По существу, в районе Калинина образовался самостоятельный фронт из войск правого крыла Западного фронта и группы генерала Ватутина. Мне удалось организовать управление всеми этими войсками и добиться временной стабилизации положения.
Свой командный пункт я расположил на командном пункте командира 256-й стрелковой дивизии генерала С.Г. Горячева в деревне Змиево, непосредственно примыкавшей к восточной части Калинина. Отсюда мне отлично был виден город, и я мог контролировать действия 256-й дивизии.
Весьма серьезную угрозу представляли попытки противника прорваться по Московскому шоссе. Поэтому я приказал командующему 30-й армией генералу В.А. Хоменко все части армии группировать фронтом на юго-запад и удерживать шоссейную дорогу Калинин – Москва.
Вечером 15 октября я направил самолетом на имя Сталина записку и донесение о сложившейся к 14 и 15 октября обстановке на калининском направлении. Докладывал о мерах по отражению наступления противника на Торжок и Бежецк в тыл Северо-Западному фронту и на юг – в московском направлении. Это был первый и очень важный доклад в Ставку в тот критический период, когда немцы стремительно продвигались к Калинину и заняли его, а у нас в городе ничего не было. Только в результате неимоверных усилий удалось собрать войска и остановить наступление левофланговой группировки немцев – танковой группы Гота и 9-й армии. Угроза глубокого охвата Москвы с севера и северо-востока на время была устранена.
Ночью гитлеровцы предприняли попытку переправиться на восточный берег Волги на участке обороны 256-й стрелковой дивизии. Враг перебросил передовые части, пытавшиеся захватить и удержать плацдарм. Но наши войска в быстротечном бою, в котором участвовали мы оба с комдивом Горячевым, разгромили и отбросили противника.
Рано утром 16 октября направленный мной в танковую бригаду Ротмистрова офицер для поручений полковник Воробьев доложил, что противник прорвал оборону бригады и развил наступление севернее Калинина по Ленинградскому шоссе на Медное. Точно установить, где находится наша танковая бригада, ему не удалось.
Пришлось немедленно выехать в район Медного. Следуя дорогой, идущей параллельно шоссе Калинин – Ленинград, я действительно обнаружил движение немецких танков на Торжок. Наших войск не было. Случайно встретил командующего ВВС Северо-Западного фронта генерала Куцевалова, которого знал еще до войны по совместной службе в Забайкальском военном округе. Попросил его нанести авиационный удар по вражеским танкам и если не остановить, то хотя бы затормозить их продвижение. Вернувшись в Змиево, направил офицера связи к командующему 29-й армией генералу Масленникову, потребовав от него энергичных действий. Армии поставил задачу нанести удар в тыл гитлеровцам, наступавшим на Торжок, отрезать их от Калинина и разгромить.
Прорыв противника к Торжку вновь обострил обстановку. Создалась угроза совершенно безнаказанного наступления врага в тыл Северо-Западному фронту и на восток – в направлении Ярославля.
Необходимо было сделать все возможное и невозможное, чтобы предотвратить эту серьезную опасность. Временно выручал Куцевалов. Его авиация уже наносила бомбовые удары по танковым колоннам врага. Я торопил Масленникова, приказывая ему нанести удар по северной окраине Калинина в направлении Горбатого моста, закрыть образовавшуюся брешь в обороне наших войск.
В этот же день узнал, что к Лихославлю подошли головные части 133-й стрелковой дивизии генерал-майора В.И. Швецова. В результате встречных активных действий 133-й дивизии и войск 29-й армии группировка противника, прорвавшаяся в район Торжка на узком участке фронта, была подрезана, затем окружена и разгромлена. Попытки гитлеровцев форсировать Волгу восточнее Калинина закончились провалом. Когда положение в районе Калинина для нас несколько улучшилось, я начал добиваться связи со Ставкой и штабом Западного фронта. Начальнику связи 256-й дивизии удалось обходным путем связаться по «морзе» с Москвой и Генеральным штабом. К аппарату подошел генерал А.М. Василевский. Ознакомившись с моим докладом, он предупредил, что у аппарата сию минуту будет Сталин. Верховный сообщил мне о решении создать Калининский фронт в составе 22, 29, 30 и 31-й армий и о назначении меня командующим войсками фронта.
Впервые за войну создавался фронт, управление которым начиналось с единственной реальной личности – командующего фронтом. Пока в моем распоряжении были лишь офицер для поручений полковник И.И. Воробьев, адъютант майор А.И. Саломахин и два шифровальщика. Правда, я поначалу мог опереться на штаб 256-й стрелковой дивизии, на ее замечательных офицеров во главе с генералом С.Г. Горячевым. Они оказали мне неоценимую помощь в самые критические дни. Был подготовлен первый приказ по войскам Калининского фронта, всем армиям поставлены конкретные задачи. В первую очередь следовало окружить группировку противника и попытаться освободить Калинин. Планировалось провести эту операцию при поддержке авиации Северо-Западного фронта, которая должна была прикрыть группировку наших войск северо-восточнее Калинина.
С 20 по 28 октября войска вели активные наступательные бои в районе Калинина и отражали ожесточенные атаки противника, все еще стремившегося развить успех на торжокском направлении. Все наши усилия сводились к тому, чтобы на правом фланге не допустить продвижения врага в бежецком и ярославском направлениях, а в центре – освободить Калинин.

