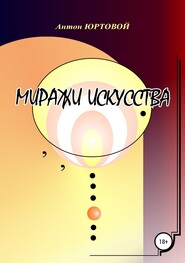 Полная версия
Полная версияМиражи искусства
По его распоряжению к местам работ уже было отправлено более семисот полновесных железнодорожных вагонов меди, стальной арматуры, цемента, стекла и других необходимых материалов. Задействованными оказались структуры МИДа, крупные фирмы, производившие стройматериалы, банки, таможни, морские порты, железные дороги, автотранспортные предприятия, даже ФСБ, минобороны и прокуратура. Последнюю более всего интересовала возраставшая в объёмах пропажа значительной части груза в пути. Следователи тогда заявили, что им не удалось выявить ни мест, откуда происходило умыкание, ни воров, ни стоимости украденного. Под влиянием скандалов, подобных этому, проект зашатался. О нём замолчали. Будто ничего такого никогда и не было.
А ведь как витиевато объясняли необходимость возведения композиций! Приплетали сюда и международное сотрудничество, и дружбу народов, и всеобщее благоденствие с высокой мировой культурой. Выходило же, что позабавились и только. Руководству страны просто, наверное, хотелось, как всегда, хоть из кожи вылезть, хоть без штанов, а о себе заявить.
Охотников подсовывать миру такие, с позволения сказать, плоды художественного творчества это нисколько не обескуражило. Церетелевский монумент Петру I в Москве тому подтверждение. Москвичи, да и не только они, его возненавидели ещё, кажется, до открытия. И что же? Возненавидевшим то и дело втолковывают, что памятник символизирует великую эпоху, начатую Петром, что в композиции выражена стабильность отечественной российской государственности, державность и проч.
Не из того же ли ряда архитектурные абстракции Гауди, оглушающие ритмы рок-музыки, игра на сцене преимущественно валянием по низам, то есть с опусканием на пол и ползанием, барахтанием по нему в театральных и балетных спектаклях, загаженные матом прозаические поделки Пелевина, бесконечные криминальные кинофантазии Голливуда? Свыкнется – слюбится? Так ли! Тут хотя бы иногда кто-нибудь нас одёргивал, задавался вопросами, пробовал искать ответы.
Что, скажем, в той самой государственности и державности, коими удивляет Церетели? Это ведь категории вовсе не эстетические. Как быть с московским Петром I нашим потомкам, которым когда-нибудь, может быть, даже совсем скоро, придётся жить на территориях сегодняшней России, но уже без России, что совершенно не исключено?
А оглушение музыкой!
Громче-то уже ведь нельзя. Громкостью что ли, барабанным ли стуком хочется превзойти образцы, оставленные Бахом и Моцартом? Или неймётся просто двигаться, разводить шум, бросаться куда ни попало? Влезать со своим новейшим шлягерным громыханием в нутро симфоний, лирических музыкальных этюдов, неспешных рапсодий? Даже в обычной устной речи тянет к рекордам, к опустошающим изворотам. К примеру, на «настоящем» радио, радио России, особенно в последних известиях и в передачах о спорте такую порой сотворят скороговорку, что уплотнённые слова и фразы будто раскаляются, вот-вот из них дым и пламя пойдут.
Дальше и здесь-то уже некуда!..
…Терпят крах попытки приспособить к живому искусству и к художественному творчеству так называемое «ничто». Как правило дело тут заканчивается изобретением какой-нибудь рисованной белиберды, которую, кстати, совершенно просто отмоделировать на компьютере. В поисках выхода на другие просторы бросаются в сомнительные заимствования, туда, где стилистика изучена и объяснена пока слабо. Вожделенные взоры обращены, в частности, к китайской традиции, где правили бал глубокая и тонкая сосредоточенность и созерцание. Однако найти в ней искомое вряд ли удастся: будучи великолепной в композициях и в смысле эстетики, она даёт образец такой степени догматизации, которая в новое время, очевидно, полностью исключала бы развитие творческого начала…
Почти такая же отдача от углублений в традицию иконописи. То, что в своё время этой части изобразительного искусства было суждено проявиться ярко и оригинально, вовсе не значит, что арсенал его достижений вполне пригоден для дальнейшего развития в такой противоречивой и обречённой эпохе, как наша. Несмотря на это пишущих иконы великое множество. Идут здесь от неких рассуждений о новом значении церкви и религии. Дескать, обе переживают возрождение – почему не быть возрождению и в близком к ним занятии иконописью?
Вопрос отдаёт схоластикой. Тем не менее работа не прекращается, своим размахом согревая сердца преимущественно попов. Это должно настораживать. Молиться можно и на самую захудалую икону. Только при чём тут будет настоящее искусство, рождаемое в муках творчества и в потребности?
Перемешивание стилей и опыта привело к тому, что нет больше устойчивых социальных критериев оценок. Прекрасным считается любое изделие, выполненное даже ребёнком, едва отбившимся от соски. Восхищаться в равной степени предпочитают красивым и безобразным, но – не изящным. Тому же научивают молодых… У любителей пожонглировать наукой накапливается опыт приобщения к исполнительской работе в изобразительных искусствах диких или одомашенных обезьян, кошек, слонов и других животных. Оригинальное, талантливое, из-за того, что не умеют и не успевают условиться насчёт его ценности или даже его порой просто некуда деть, размещают в одном ряду с образцами прикладного и оформительского искусства, в самых заурядных, часто мало кому доступных интерьерах.
И уже никто не берётся утверждать, как это плохо и неприлично. Наоборот, подчёркивается, что здесь прогресс. «У современных скульпторов, – говорилось в комментарии о содержательности одной из ежегодных российских выставок ваяния, – невозможно выделить какую-то общую тенденцию. Царит свобода формы и темы, художник творит что хочет».
Все эти признаки упадка заставляют говорить по крайней мере о двух важных особенностях, которые пришли в мир духовности и искусства от их перенасыщения образцами или, как ещё говорится, – от передозировки ими.
Первая особенность в том, что всё ближе подходит момент, когда едва ли не в полной мере должно изойти и избыть себя всё воплощаемое в искусствах. Его творцы и исследователи недостаточно оценили реальность, которая так велика, разнообразна и всеобъемлюща, содержит в себе такую могучую внутреннюю эстетику и чувственность, что искусство, слишком часто анархически управляемое людскими амбициями, начинает уступать ей и стремительно теряет свои позиции. Оно размывается и поглощается реальностью, в том числе, бесспорно, под влиянием развития техники, новейших открытий и технологий.
Можно искренне восхищаться древнейшими красочными рисунками на стенах пещер, натуральными и очень часто весьма талантливыми в чётком интуитивном уложении главных примет и интересов тогдашних людских общин и каждого отдельного человека. Эти образцы искусства хорошо помогали возвышать воображение и усиливали восприятие окружающего, добавляя людям как знаний, так и возможностей усовершенствования чувственности, ощущений, в русле чего как бы почти с нуля набирала мощи зарождавшаяся эстетика. И – совсем иное дело то, что творцы искусства пытаются отыскивать в наше время, время сплошной информатизации, когда об эстетике, имеющей свои законы и свои отличия или рамки, известно уже, кажется, всё. Достигнутое есть, видимо, уже некий предел, развитие в нём исчерпало себя, и, как в случае с любым идеалом, оно теперь способно устремляться, пожалуй, только в сторону от жизни, где как раз место несуразностям и извращениям; туда сейчас и спроваживают его современники, подкрепляя свою неуёмную старательность всяческими благими расчётами и ожиданиями и не желая осознавать, что заходят всё дальше в тупик…
Вторая особенность упадка неразделима с первой – с тем же фактом перенасыщения.
Как потребитель искусства, человек не в состоянии воспринять всё, что предлагают творцы. И если он потребляет лишнее, если окружён красотой сверх меры, утоплен или задавлен ею, то дают себя знать явления «порчи» от художественного. Одно из них получило название синдрома Стендаля – это когда у людей не только обычных, обывателей, но и у тех, кто отличается устойчивым интеллектуальным складом характера и ума, начинаются тревожные и даже пагубные отклонения в аппарате индивидуальной психики.
Своё, личное самочувствие этого рода, близкое к помешательству, как известно, первым описал автор «Красного и чёрного»20, посетивший Италию и, в частности, Флоренцию, где он воспринял сильно завышенную дозу тамошнего ваятельного и другого блестящего искусства разных столетий.
Указывая на эти особенности, уже нельзя не разделить и прямой тревоги по части будущего негативного масштабного воздействия искусства на человека, на людей при его бесконтрольном развитии и беспредельном накоплении. Пока что беспокойство здесь редко выражается в открытую: землянам искусство по-прежнему дорого. Но, вероятно, в целом оно уже есть тот фактор углубления общественной тревоги и утухания духовного оптимизма, без учёта которых непозволительно говорить о реальных перспективах продолжения человеческого рода. Нет пока соответствующей статистики, – но уже слишком часто злостные преступления совершают выпускники учебных заведений культурного профиля, работники учреждений культуры, деятели культуры и искусства, представители интеллектуальной элиты, люди, окружённые красотой по долгу службы или в её защиту. Связывать напрямую искусство и преступления не принято, это – пока величайшее табу; и, как продолжение этой слепой и вялой традиции, нет ещё и соответствующей, сколько-нибудь внятной государственной или международной политики…
Можно ли, например, не задаваться вопросом: почему в Германии, где духовная культура признавалась одной из наиболее развитых в Европе и в мире, население и огромная часть интеллигенции легко открыли двери тотальному насилию и ненависти в облике гитлеровского нацизма? С этой точки зрения неплохо бы поразглядывать и другие исторические ситуации.
Наша современность уже достаточно проявила себя в неясных устремлениях своего культурного развития.
После того, как были наконец сняты идеологические препоны, главным, чего ему, как будто бы, не хватает, остаётся низкое и нестабильное госфинансирование. Задачи решаются здесь прямо-таки на примитивном уровне. Во-первых, они, что называется, безразмерны. В ходу пожелания: чем больше, тем лучше. То есть – и финансирования, и самой культуры. Второе: из-за того, что госфинансирования недостаёт, культуру начинают приспосабливать к обстоятельствам. Ей, соответственно с нормой капитализма, досталась незавидная участь поддерживать себя как бы самостоятельно – зарабатывая себе своими услугами. Такие заработки скудны, и если даже находятся благотворители, то находит их не сама культура, а государство, вынужденное устраивать развёрстку для бизнеса на пожертвования.
Значит это должно то, что и отдельным видам искусства, и отдельным творцам быть свободными в разумной мере – «максимально» – голубая мечта. Ведь искренних пожертвований, как правило, нет. По ним возникают обязательства, и, конечно, должны быть уступки. Основной частью их опять следует относить в сторону государства – за его услуги. Когда в духовном берут верх столь мощные взаимосвязи, то существует только один верный способ выйти из них. Он состоит в обращении к эстетике и творчеству на началах абсолютной свободы.
Заходя в эту сомнительную сферу, творцы, попросту говоря, бунтуют перед невозможностью зарабатывать иначе и ввиду своей безысходности.
Что же до организаций и учреждений культуры, до государства, то, не будучи искушены в мотивациях бессмысленного, ничего не выражающего творчества, они всего лишь принимают предложенную мистическую игру, и под неё идут теперь все их усилия, материальные и финансовые вклады, призовые подачки и проч., что уже становится атрибутикой фальшивой, совершенно дикой политической линии на культурном фронте.
Сюда уже не может не втягиваться и огромная часть бизнеса. Не по его доброй воле, конечно.
Если эта модель развития ещё и не вызрела, признаки того, что она есть в наличии, обнаружить и увидеть не составляет большого труда. Вместо производства эстетики в ней заложена возможность формировать производственную, бытовую или какую-то другую внешне благообразную эстетику. Нисколько не больше. Разумеется, это тоже культура, но – не главная, не коренная, не многомерная, не духовная. Свободная от образов и ярких концепций. Устремлённая к выражению не в единичном, а в массовом. Претендующая на собственную исключительность. Будто бы она необходима обществу. Склонная вырастать только в объёмах и во множественности. Когда не знают цены даже шедевру и могут одинаково легко обходиться и с ним, и без него, довольствуясь суррогатами.
Всеобщее непонимание?
И что будет?
Хотя отдельные произведения, наполненные банальностями и пустотой, тиражируются в репродукциях, как и в оригиналах, в этих копиях мало кто нуждается. Во многих случаях тираж пиарится, проталкивается, всё больше заполняя уже и без того огромное ярмарочное поле. Умные роботы, если бы вся суетливая и малополезная работа в сфере творчества поручалась им, справлялись бы с нею, пожалуй, намного лучше. Во всяком случае, они бы резко уменьшили её объём. Бездумному растрачиванию сил на фантазии и фальсификации пришёл бы, возможно, конец или, по крайней мере, им было бы реально поставить жёсткий предел…
Веналия не трогали мутные шевеления в сумбурной стихии оценок, сбыта, показа и потребления произведений искусства. Ни чужих, ни своих. Он любил то, чем увлёкся, и этой любви был верен, поддавшись меркантильности, можно сказать, не по своему хотению. Кто-то просил продать, он продавал. Копирование шло уже по необходимости – чтобы как-то существовать. Цену он никогда не заламывал да и не знал её. Воспринимал её как обычное подаяние. И честно его отрабатывал. Его служение искусству, подточенное житейскими невзгодами и взятое в его сути, было в конце концов мерой, сутью и ценностью самого искусства, которое он творил. Иначе не получила бы его лучшая картина масштабного признания, пусть и в копии и уже сработанная не автором. Признания, которому теперь завидуют.
Сильно любил свой хромавший выбор и Керес. Столько лет устремлений, поисков, учёбы, проверок того, чему вдохновенно обучался. Но вот – не сложилось. Ему не делает чести то, что коммерцией с копиями он занимался уже вовсе не из отчаяния. Оставался бы со своим бизнесом, не лез в картёжники. Копии он сбывал как человек сведущий, тёртый деляга. Ему под стать Ольга Васильевна, которая, как я мог предполагать, первой и подтолкнула мужа к деловой и, значит, также – к моральной нечистоплотности, а после его смерти умела совмещать своё искреннее страдание с распродажей того, что оставалось от нехудожника.
Определённую символику я нахожу в том, из-за каких причин два изображения, запечатлевшие видение состояний мира, оказались захоронёнными в землю вместе с их творцами. Веналий, сам здорово сомневавшийся в своей талантливости, предполагал, что спросом на его работу потребители показывали их неразборчивость, если они вообще не блейфовали и тем самым лишь отгоняли от себя серую болотную скуку. Подсмеиваясь над ними, он держал смех и для себя. Черствые люди, устроившие мероприятие по захоронению, были от понимания такой позиции, конечно, неимоверно далеки, хотя, если их понять, они сделали то, что было в их тогдашних пропартийных интересах: зарыли в землю произведение, подававшее признаки талантливости и оригинальности, чтобы его и – с глаз долой и чтобы больше не разбираться с ним и не помнить о нём.
Что же касается Кереса, то, как и в его обращении с лучшей дядиной работой, он, уходя в мир иной и взяв туда собственную посредственную картину, не сумел и здесь подняться до оригинальности, а только следовал шутке, опять же – дядиной. Иными словами, он и в столь вызывающем своём решении предпочёл остаться копирайтером.
При всём этом я не стал бы осуждать никого из двух главных персонажей моего рассказа, оказавшихся пленниками искусства. В их судьбах легко обнаружить, как под влиянием обстоятельств рассыпались и растворялись их лучшие интеллектуальные поползновения. Я имею в виду обстоятельства не только внешние, наружные, бытовые, но и социальные.
Должно гораздо больше значить то ущербное состояние всеобщей духовности и свободы, при котором искусство просто и неизбежно теряет свою роль.
Обилие образцов таково, что можно ими обставить каждого и на любом месте, где каждый находится. Обставить уже в прямом смысле.
Вряд ли это та желаемая цель, та, с позволения сказать, красота, которая, по Достоевскому, должна спасти мир. Она ведь теперь упрощена: из неё убрано существенное.
Обилие рекомендуется воспринимать как благость, как цель и даже как достижение цели по факту. Ради получения этого результата ещё больше подстёгивают производство образцов. Их масса давит на творческую фантазию и рассеивает её. Художнику не на чём остановиться и, стало быть, не в чем выразиться. Он выходит из торжествующей бездумной пляски, выходит из игры, и хорошо знает, почему это делает. Перед ним сияют давно уже покорённые могучие вершины, не только в живописи или ваянии, но и в поэзии, прозе, музыке, а также вершины, хорошо изведанные в настроениях, в психике, в душе, в предпочтениях человека. Что остаётся покорять ему? Тех же, кто, игнорируя позывы совести, берётся задавать тон, за неимением лучшего, начинают пиарить.
Первоначально пиар активно содействовал скорому получению прибылей экспозиционному и торговому бизнесу. Сейчас его функциональность настолько же широка, насколько и агрессивна. Людей, которым адресуются новые достижения искусства, ошарашивают разного рода рейтингами. Часто вовсе не теми, которые бы говорили о подлинной ценности произведений или заводили бы потребителей на плодотворные дискуссии о качестве и культурном значении свежих образцов. Нет. Мерки выставляются более чем странные и нелепые.
Например, по кинопродукции её достоинства обнародуют в степенях затрат на изготовление штуки. Чем больше затрачивается, тем, стало, и штука ценнее. То же с тиражами книг. Чем тиражи больше, тем, значит, книга лучше. Такая приманка считается чуть ли не полностью отвечающей интересам потребителей, поклонников прекрасного.
Рейтингами буквально понуждают их посмотреть, послушать, прочитать новинку. До обстоятельного изучения предложенного дело не доходит. А разогревание сбыта сопровождается ещё и всяческими выкрутасами, вроде сообщений об искусственной пропаже образца или тиража, оспаривании прав на них, изобличении подделок, болезнях или семейных разводах авторов и так далее и тому подобное.
Тотальное устройство пиара чревато тем, что его соучастником легко становится людская масса или так называемое большинство.
Если когда-то решающее слово оставалось за мастерами и титанами мысли, то теперь можно обойтись без них. Большинство, каким бы оно ни было по цветности и пристрастиям, часто говорит «да» последней серости и примитивщине – этим всё и решается. А ведь решается не шуточное: индивидуум попадает большинству в заложники, порабощается и фатально извращается им. Уже бесконечно много раз оно, а не только монархи и узурпаторы заводило мир в тупики драм и трагедий, бросало его на распутьях, но, поди же, воз и ныне там.
И то, что в новое время ему и очень часто только ему дозволено распоряжаться величественными и одновременно зыбкими судьбами искусства, делает художественный мир по-особенному расстроенным и уязвимым. Впрочем, из-за недостатка эстетических ориентаций, когда до нуля уменьшается число достойных мастеров и титанов мысли, опрометчиво ждать чего-то лучшего и от отдельной, чем-нибудь замечаемой личности. Её талантливость может быть неразличимо фальшивой, изыски и выражения – приспособленческими или неумеренно, до отупения, броскими, авторитет – надутым.
Если такая ходульная личность обретает свободу делать что ей угодно, то, мы знаем, что приходят здесь всегда к одному и тому же: сначала с неё берут пример и восхваляют её, потом передают ей полномочия, затем избирают на руководство, обожествляют. Понятно, в этом прискорбном случае пресловутому большинству отводится первостепенная роль.
Рассматривая его как серьёзную социальную силу, люди нашего времени, представляющие творческое крыло в искусстве и подверженные изъянам продажности, всячески ему подыгрывают, пасуют перед ним.
Это по их вине из употребления выпала теперь критика того, что они делают и с чем идут к публике.
Теперь критика не ради поиска истины; из неё старательно выхолощен дискуссионный аспект; она сплошь и рядом заменена тем, что исходит от самих творцов, авторов, – в виде неких самоотчётов о работе, где им, как уже считается, всё, что они только ни делают или ещё лишь собираются сделать, виднее. Это своеобразное мочало, которым, соблазняясь на предстоящий успех, не гнушаются потереть себя до встреч с аудиторией особенно те, у кого маловато таланта или он вовсе хил. Эйфории неуёмного свободного раскрытия перед публикой, а порой даже непристойного выворачивания себя перед ней легко поддались и творцы, имеющие приличное компетентное признание. Это уже дань дурной традиции. Постоянно и бестолково чего-то бубнят о себе многие актёры, поэты, писатели, танцовщики, эстрадники, даже фокусники.
Будто этой словесной сыпью можно что-нибудь улучшить в их произведениях или в исполнительских номерах.
Часто, кроме как ненасытного любования собой, такие комментарии ровным счётом ничего не раскрывают и не содержат.
Что и говорить: пиар, он и есть пиар…
Красота превращена в игрушку, и ей ли спасать мир, то есть, надо полагать, всех нас?
Мы – невольники абсурда. Красотой мы испорчены и не знаем как быть дальше. Нам не дано предугадать. Мы тащимся как слепые – от самих себя. Часто и в главном – неизвестно куда…
«Молодым я мечтал дожить до третьего тысячелетия, – рассказывал о себе гроссмейстер Смыслов, ставший известным своим утончённым постижением прекрасного как в шахматах, так и в сфере искусства и вообще во всём окружающем. – Я полагал, что в новом веке нас ожидает нечто особенно красивое, высокое, что в нём будет найдена – нет, не истина, это чересчур громко, но, по крайней мере, гармония, которую я искал. Но новый век меня разочаровал. За исключением технического прогресса, пожалуй, никаких изменений к лучшему он не принёс. Уровень духовной культуры явно упал…»
И как же быть с героями, о которых здесь повествуется?
Не мне набрасывать им баллы за поведение. В отличие от многих сочинителей я задаюсь целью показать не манекены, с которыми всё должно происходить точно таким образом, как считает тот или иной автор, озабоченный лишь как бы поярче блеснуть фабулой.
Керес и Кондрат, будучи причастными к искусству, проявляя себя в нём, не превращались в эстетов, не напускали на себя худосочной, бледной и беспочвенной тоски или хандры ввиду своего отношения к омутам художественного творчества. Это люди реальные, неотделимые от их жизни и от обусловленных её ходом собственных их поступков.
Только ввиду их реальности для меня были совершенно излишни подрисовки их недостатков или достоинств, а также – событий, окружавших их и возникавших при их участии или ввиду некоторых других причин.
Подчеркнуть это, полагаю, очень важным: герои, когда они сфантазированы из обычных людей, – неуместны в реальных событиях; они склонны передвигаться куда угодно, куда только укажет им воля сочинителя, а это всегда очень плохо. Сколь бы ни делать их красивыми или некрасивыми, они – фальшивы.
К описанию ещё некоторых событий и обстоятельств, заключающих и таких же реальных, как и все уже изложенные мною, я теперь перехожу, чтобы уже затем можно было поставить в рассказе и последнюю точку. Без этого важного дополнения она, последняя точка, никак не ставится. Подчеркну, что события и обстоятельства, которых я намерен коснуться ниже, были новыми и даже слишком неожиданными для меня. Они открылись мне много позже, когда всё предыдущее было уже, в виде текста, изложено и я считал, что все возникавшие пустоты мною заполнены и изложенного достаточно…
«Дружище Ле!
Вот уже который раз я сажусь писать ответ на твоё горькое письменное сообщение о художнике, приказываю себе не вставать из-за стола и не распрямляться, пока ответ не будет готов, как бы много времени на это ни потребовалось, и, к великой для меня досаде, снова не справляюсь с поставленной задачей. Кажется, и сейчас не знаю, сумею ли справиться с нею. Так бы надо много сказать. Не вместишь ни в какое письмо.
Неимоверно трудно из большого потока мыслей и рассуждений выбрать самое значимое и тем сократить работу. Я никак не могу, не умею настроиться и войти в тон. Думаю не о сущем, которое следовало бы держать в голове, быть готовым расстаться с ним и, не торопясь, отделять, отщипывать от него по частям, образуя устойчивую, цельную, логическую матрицу. Я просто гибну от стыда уже только от того, что о моей подлости когда-нибудь станет известно тебе, другу, лучше которого мне встречать не приходилось.

