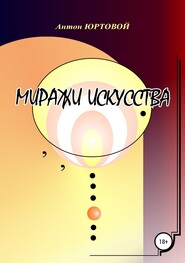 Полная версия
Полная версияМиражи искусства
От упований на то, что хорошее усвоение принципов свободы сможет стать плодотворной основой творчества, ничего не осталось.
Мне он, разумеется, ничего не врал и, не выставляясь, как художник, был передо мной, что называется, чист. Кое-что ведь не могло не сохраняться в нём от того Кереса, к которому я берёг свои лучшие чувства и устремлялся верой, что рост ему обеспечен.
Он не оставил творчества напрочь, писал и даже много, разумеется, не питая уже особых надежд и теряя талант; стремился, не затягивая, избавиться от полотен, сбывал их за бесценок. Иногда это были откровенно никчемные картины, эпатирующие безобразным, вплоть до такой мазни, на какую способны даже мартышки. Подлаживаясь, угождая, рисовал портреты знаменитостей от искусства, представителей бизнес-элиты, лиц из иерархии власти, интимное, даже срамное.
Я думаю, наши общие с ним воззрения на свободу и на порядочность, какой она только и может выглядеть в истинно свободной творческой личности, по-прежнему крепко держались в нём и непременно возбуждали стыд. Не иначе как чтобы его заглушить он выставлял и продавал полотна не под своим именем, часто менял псевдонимы.
Полагаю, той же глыбой стыда сопровождались и его неординарные поступки, которые приходились на самые последние годы и дни его жизни.
Всё, что ранит теперь мне сердце, открывалось для меня отрывочно, скомканно, во многом с чужих слов. Это опять же ввиду нашей постоянной разлуки. Но для меня тут нет мелочей. Потеряв Кереса и как несостоявшегося творца, и как жившего, я по своей воле несу ответственность за судьбу этого простого и близкого для меня человека. А вместе с этим отвечаю и перед людьми, которые могут воспринимать его личность излишне строго или не понимать её вовсе.
Продолжу повесть отсылкой к уже упоминавшейся угольной шахте. У меня была творческая поездка на это предприятие. Оно здорово изменилось, окрепло, хотя вокруг него оставалось немало и примет былой тотальной жертвенности ради форсирования в развитии производства.
Директором оказался энергичный и обаятельный коренняк, то есть выросший в руководителя здесь же. Мы узнали друг друга. Он – один из троих инженеров, обитавших в общежитии, где в оно время нашлось место и мне. Мы, каждый с переменным успехом, сыграли в те поры несколько шахматных партий, встречались у библиотечной стойки, меняя журналы и книги, разумеется, и в столовой. В беседы вступали редко. Я не лез, он тоже не распахивался. Как старший, он, безусловно, имел на это право.
С раннего утра директор сам сопровождал меня в подземные лабиринты, к сооружениям и в служебные помещения на поверхности.
Когда позже зашли в его кабинет, поинтересовался, не смогу ли я принять участие в похоронах.
– Один работник, ветеран по трестовскому учёту, мне лично не знаком, так – понаслышке. Здесь доживал. Будто бы имел дарование художника, – сообщил он.
Названная фамилия покойника мне ни о чём не говорила.
Я не счёл удобным отказываться. Ведь шахте я вроде как был обязан.
– Ну, раз так, гляди вот на это. – Из-за массивного стола директор вытащил картину в рамке; повернул лицевой стороной ко мне.
У меня сразу возникло ощущение, что я вижу изделие не впервые.
– Его? – спросил я.
– Да, – ответил он.
В непослушных мазках, старая по исполнению и по виду, картина была схожа с написанной Кересом, то есть и с моим косвенным участием. Панорамный облог выбирался, казалось, из той же самой точки, какая для меня была предпочтительной в самом начале – со стороны чердачного окна. Та же грунтовая дорога, хотя и с другими действующими лицами – молодками, плотно усевшимися на лавках в открытом кузове автомашины.
С наклоном или стоймя каждая держала грабли или вилы. Публика возвращалась домой, очевидно, с какого-то ближнего луга, наработавшись на сгребании подсохшей скошенной травы и складывании копен. Девичьи лица выглядели возбуждёнными, весёлыми, яркими в молодой красоте. Ещё в пятнах непросохшего пота светлые дешёвенькие летние платья и кофточки; на головах и по плечам косынки-тенёвки; на всём – на одёже, причёсках, лицах, торсах, руках – мелкие, весёлые крапинки сенной крошки.
Художник придал стайке положение энергичного лёгкого наклона фигурами в направлении, обратном ходу машины. Лишь на переднем сиденье одна из товарок, повернувшись, колотит ладонью по крыше кабины, требуя от шофёра убавить скорость.
Крик, смех, задор. С десяток рук тянулось к уже подбегавшему сзади и готовому вспрыгнуть на борт парню годов около двадцати двух. На нём летняя форма красноармейца без погон и без обтяжного ремня. Из-под расстёгнутого ворота гимнастёрки проглядывает белая полоска исподнего. Небрежно, задом наперёд, на вихры налепилась перемятая пилотка, ещё со звёздочкой. Лица не видать. За плечами почти пустой вещмешок. А в поднятой над головой левой руке – букет розово-белых пионов и ярких красно-синих кукушкиных черевичек.
Скорее всего, парень, демобилизовавшись, добирался в своё мирное неизвестное и сейчас, доехав сюда на свернувшей с трассы попутной и передохнув где-то у опушки, ловил следующую оказию.
Стыдливо и жадно тянутся девичьи руки. Кому-то первой, может быть, от начала войны и до настоящей минуты, когда война уже закончилась, достанется прикосновение сильной, горячей, желанной солдатской руки. И, вместе с этим, возможно, ей же – букет ранних летних лесных цветов. А дальше…
– В шахтном музее я ничего подобного не заметил, – сказал я директору, продолжая разглядывать работу и почти не слыша его.
– То-то и оно, – моментально отреагировал руководитель. – Посмотри вот здесь. – И повернул картину.
На обратной стороне, по холсту в нижнем правом углу, читалась масляная надпись тонкой кисточкой. Не обращаясь ни к кому, писавший просил: при его смерти, с ним, в одном гробу, захоронить и эту вещь. Позволял без рамки. Подпись и дата отсутствовали.
– Это – как завещание. Решено его уважить, – открыл, кажется, последнюю карту хозяин кабинета.
– Сними, – дал он распоряжение тут же приглашённому управленцу. Тот, видимо, был целиком в курсе.
Пока длилось отделение холста, я продолжал торопливо изучать творение. В нём были, разумеется, и другие отличия. То есть – опять же – от нашего с Кересом.
На небе, над пространством, уже остававшимся позади машины – облако. Довольно мощное, с отвислой насупленною серединой, но рассеянное по краям, теряющее себя. Ещё одно, тёмное-претёмное сплошь, почти у горизонта, в стороне, куда едет машина. И в той же части картины, вдалеке впереди, еле заметной, белесою тенью перебегает дорогу кот. Может быть, кошка. Сама дорога – в жёстких, закаменелых выбоинах. Ближе всего – широченная, чуть ли не на всю проезжую часть, лужа. От неё исходит яростный блеск отражённых солнечных лучей – прямо в глаза наблюдающему картину. Сила этого блеска уже не настоящая, а лишь предполагалась.
Работа выглядела здорово испорченной: в чешуе иссохших отслоек грунта и краски; тонкая рамка в рыжевато-бурых пятнах. Изображению доставалось уже и сейчас.
Было слышно как осыпаются крошки трухи; они ронялись на стол, сухо шуршали внутри при скатывании холста.
Скоро мы уже подъезжали к дощатому крыльцу осевшего к земле дряхлого деревянного барачного строения. Оттуда как раз выносили покойника. Гроб был закрыт крышкой.
Оказалось, тело обнаружили по неприятному запаху спустя больше недели после смерти; оно разлагалось…
Из пафосной скупой речи парторга узнал, что умерший был коногоном. Больше из этого печального племени в посёлке и даже в соседних шахтёрских посёлках не оставалось живым ни одного. Прозвучали другие речи, траурные мелодии, снова речи и музыка, уже над могилой. В основном говорилось только то, что входило в казённый интерес. О личности как таковой, о занятиях человека живописанием – очень коротко, буквально вскользь.
Умерший не был здешним старожилом. Как недужного и уже не работающего по возрасту его переместили сюда с одного из поселений горняков какой-то соседней шахты рудника, входившей в один угольный трест. Будто бы на время: то поселение из-за чего-то подпадало под снос. Получилось же – насовсем.
Двое мужчин с чёрными повязками на рукавах (цвет угля) суетливо сняли колпачок с тубуса из прессованного картона, достали оттуда осыпавшийся трухою свёрток; удерживая за края, развернули и подняли холст повыше, на обозрение собравшихся; коротко пояснили суть необычного завещания.
Процедуре сопутствовали общее неясное тяжёлое дыхание, нечёткие, бесстрастные реплики удивления, перешёптывание, щелчок фотоаппарата. Затем картина опять была свёрнута, перевязана чёрной атласной ленточкой и вставлена в цилиндр. Приподняв одну продольную сторону крышки гроба, уложили его обок с телом покойника, приглубили его ко дну.
Установилось гнетущее отстранённое молчание. Над собравшимися мелко просыпало стылыми дождевыми каплями. Крышка снова легла на место. Гроб быстро забили, опустили.
Будучи здесь не своим, я стоял в отдалении, у края собравшихся, напротив мужчин с повязками. Вроде и не было надобности подходить ближе. Уже дотошно обследованную мною ранее холстину я видел хорошо, но, помню, с опозданием пожалел о том, что не оказался напротив гроба с другого края. Тогда, возможно, удалось бы хотя на миг рассмотреть лицо умершего, если, конечно, его не задёрнули покрывалом, опять же ввиду разложения тела. Момент, к сожалению, был упущен.
Провожавшие бросили в могильную пасть по щепотке жёсткой сырой глины, заторопились покинуть кладбище. Ритуал для них, чувствовалось, был утомительным, каким-то унижающе лишним, ощутимо не коснувшимся никого. Будто не содержалось в нём и обычного, житейского смысла.
Поминали в клубе, в зале с густо прокуренным, спёртым воздухом и поднимавшейся от пола сыростью. Я здесь был раньше, во время своей практики, всего один раз, на чествовании ударников смены, в которой работал. Как и тогда, а прошло с тех пор уже более полутора десятков лет, тут, видимо, часто устраивались танцы, репетиции участников художественной самодеятельности, какие-нибудь викторины.
Ко мне, до того, как сесть за столы, подошёл парторг, мужчина средних лет. На лице намеренность поговорить. Я понял, что это инициатива не его, а директора, чего-то, может быть, по причине дурно усвоенной служебной этики покривившего душой, напустив на себя видимость малой осведомлённости о коногоне – и как человеке, и об его художественном даровании.
– Обратите внимание, – сказал партийный функционер, быстро и ровно входя в роль опытного и достаточно информированного поясняющего и показывая вверх на стену, в межоконье, куда надо было смотреть, заламывая шею. Там, на фоне давних и уже сильно затемнелых белил, торчал небрежно вколоченный оржавелый толстенный гвоздь и пониже его не тронутый светом четырёхугольник – след от висевшего и снятого предмета. След указывал, что снятое висело плашмя, без подпорок, то есть и без наклона. Об этом же говорили тонкие светловатые полоски, уходившие от гвоздя к углам рамки, – отметины от шнурка. Изделие, стало быть, не снимали даже при накладывании на стену белил.
– Картина долго находилась на этом месте, – уловив моё скомканное недоумение, произнёс парторг. – За исключением последнего пожелания, рисовальщик ни на что не претендовал, – продолжал он. – Дорожил свободой, которую понимал более чем странно. Коллег – и любителей, и образованных – не терпел, гнал от себя. Много пил. Говорят, оригинал у него только один. С него делал копии и раздавал за спиртное первому встречному. В конце концов и оригинал ушёл от него таким же образом. Не было ни семьи, ни родни. Уже много лет жил слепым, в системных запоях.
– Известно ли, где ещё есть работы? А – эскизы, наброски?
– Всё растеряно, забыто. Впрочем, будто что-то видели в каком-то общежитии. Захоронённый экземпляр передал шахте один фронтовик. Он недавно умер. Они дружили. О завещании стало известно от оформителя этого зала, – разговорившийся повёл рукой на стороны.
По стенам, почти смыкаясь одни с другими, висели отчётливо несоразмерные по величине и несообразные в предназначении стенды с фотографиями передовиков производства, панно, диаграммы горняцких успехов, грамоты, репродукции картин, портретов – скуднейший арсенал политического агитискусства погибавшей эпохи. Их вид сообщал о том, что обновлялись они крайне редко и в том не заключалось ровно никакой фантазии. Верхние линии у большинства из них почти достигали потолка. Поднимая поделки, удавалось, наверное, препятствовать попыткам порчи, которых нельзя было не заметить: зольные пятна от тычков изгоравшими окурками, ладонные и пальцевые облапы. Ведь окружавшее могло вызывать у посетителей только равнодушие и отторжение.
Ясно, что и схоронённая картина художника обрекалась разделять здесь такую же бедственную участь.
– Это, пожалуй, и всё о нём, – произнёс парторг, прерывая общение.
Церемония закончилась. Об усопшем никто больше не смог ничего мне добавить существенного. Я уходил, испытывая усталость, и уже знал, что не посетить общежитие никак нельзя.
Творение коногона, как оригинал или в копии, могло попасть туда как угодно случайно, даже после того, как он ослеп и продавать уже было нечего. Тем более, что там существовала традиция уважительности к искусству. И на простенке в клубе экземпляр появился и завис на годы вряд ли с одобрения партидеологов или даже самого директора, не теперешнего, так предыдущего. Скорее, тоже по случайности. Недосмотрели. Недоучли. Ведь художник вовсе не склонен был угождать своей угрюмой современности.
Довольно просто объяснялось и устройство скорбного ритуала. Могло дойти до нежелательных пересудов, если бы о завещании стал распространяться оформитель. Особенно, если он не из шахтного кадрового состава, а сторонний.
По строгим партийным меркам, тут для кого-нибудь из руководства мог вызреть подвох с неприятными последствиями. Скорее всего – для директора или того же парторга.
Пока мысли обо всём этом толклись у меня в голове, я уже подходил к памятному для меня зданию.
Раздельными красивыми шпалерами стояли вокруг него деревья с высокими, пышными кронами: липы, клёны, берёзы, ели. Порядья местами захватил подлесок. Зелёный убор, едва лишь тронутый осенью, по мере моего приближения к нему, возбуждал чувственность. Лёгкое томление перетекало в ожидание чего-то приятного, как то бывает в преддверии давно назревавшей радостной встречи с близким, родственным нашему духу.
Подойдя к зданию, я, однако, был сильно разочарован.
Несколько деревьев, из тех, кроны которых нависали над крышей, стояли обгорелыми. В копоти то тут то там стены, балконы, окницы. Пожаром, а также тушившими его уничтожены, истоптаны или измяты палисадники, цветники.
Внутри общежитие было уже отремонтировано. Жильцов пришлось на время отселить, но теперь они снова заняли тут свои места. На всём я замечал следы перепланировок. Удобства и уют, которые когда-то броско выставлялись как образцово-показательные, сведены на нет. Обычная мужская шахтёрская жилуха. Ни столовой, ни буфета, ни библиотеки, ни пианино. Нет и красного уголка. Исчезли фойе; образованы общие коридоры; площадь комнат увеличена с расчётом на проживание в них до шести-восьми человек. То были уже невзрачные, тесные, чем-то, кажется, даже враждебные пристанища с неустраняемым душком размокшей угольной пыли и плесени, подтверждавшим особенности контингента.
Для чьих капризов устраивали ширму раньше? Кто сочинил сказку? И как шахте, которой оставляли только малые крохи от её прибыли, удавалось по-настоящему не только поддерживать, но и содержать выдуманное?
Комендант и трое вахтенных, они же уборщицы – это весь обслуживающий персонал. По очереди они дежурят за столиком у входа, меняясь через сутки. Пожилая женщина, которую я здесь застал, отнеслась ко мне крайне насторожённо. Показывала жилище неохотно. Разговор не клеился. Здесь она не так давно. О прежней обстановке слышала, знала, что показуха, но только и всего. Никогда раньше, до поступления работать, сюда не заходила да и не пускали. С раздражением восприняла вопросы о картине коногона.
– Пустяки какие-то. Да этим, – она указала на проходившего по коридору то ли полусонного, то ли полупьяного постояльца неопределённого возраста, – им, что ли, нужны ваши картины? – Вон всё развешано, вы видели. На них-то не смотрят. Коногон, говорите?
Последнее я воспринял с некоторой надеждой. Но она тут же угасла. Оказалось, женщина ещё даже не слышала о захоронении картины вместе с её автором. И то. Ведь событие произошло всего считанные часы назад. Впрочем, о самом факте смерти какого-то человека, о том, что он не из местных, а труп обнаружили через много дней, моя собеседница всё же знала. Такие события в посёлке не тайна.
– Слышала, что-то срисовывал, пьяница, бобыль, – бросила она осуждающе. – Точно ли вы о нём говорите?
Я сказал, что сам присутствовал на похоронах и на поминках.
– А вам он кто? Родственник?
– Нет. Я здесь по делам. Когда-то на шахте практиковался, жил вот в этом общежитии, и директора знаю. Он показал мне одну картину умершего. Я как раз об ней и хотел узнать от вас.
Женщина внимательно, словно до этого вовсе не видела меня, всмотрелась в меня. Что-то в её взгляде было неясное, неотчётливое, но взыскующее.
– Ошиблась; мне показалось, вы похожи на кого-то из знакомых, – рассеянно проговорила она, заметив, что я разгадываю существенное в её взгляде. – Да нет; так; показалось. Худощавостью вроде похожи, а в остальном ничем. Нет. Вы уж извините…
Было заметно, что к теме с художником и с его картиной женщина предпочитала больше не возвращаться. В этом случае и мне вряд ли следовало уточнять, на кого я мог быть похожим.
Возможно, имелся в виду кто-то из шахтёров, теперешних или бывших жильцов общежития, кто-то ещё. С тем я и готов был уйти и, уже попрощавшись, ступил к выходу. Дежурившую, казалось, это устраивало к лучшему. Насторожённость ко мне сошла с неё. Голосом, где различалась лояльная нота, дежурившая догнала меня:
– А вы не следователь?
Я сказал, что нет.
Женщина извинилась.
– Нас до сих пор не оставляют в покое. Всех подряд. Вызывали, допрашивали не по одному разу. И, наверное, ещё не раз вызовут. И сюда заходят. Поймите – такое случилось.
– Да, хорошо вас понимаю и сочувствую вам, – сказал я и попрощался ещё раз.
Что я мог ещё говорить? Она вправе не верить мне. Но, собственно, какое всё это имело уже значение? И чего я хотел? Разобраться? В чём? Роль, которую я машинально себе назначил исходя из обстоятельства, трогавшего меня, должна кому угодно, а также и мне самому казаться не вполне уместной, если не вообще пустой. Как я этого не заметил?
Одёрнув себя таким образом, я всё же не переставал ощущать некую потребность дальнейшего расследования. Мысль об этом упорно вздёргивалась, царапая сознание. Ей нужно было непременно выйти оттуда. Но в какую сторону?
Из этого вопроса неожиданно возникал другой: из-за чего я потащился в знакомый для меня общий дом? Не забыл же я, что в посёлке несколько шахтёрских общежитий. Обойти их все, а то ещё и последнее жилище умершего художника, заняться расспросами? Но была ли тут вероятность узнать хоть что-нибудь сверх уже знаемого? И что существенного?
Был поздний вечер. Моя командировка заканчивалась. Предстояло ещё добраться до станции, успеть на свой поезд. Он проходил ровно в полночь.
В тот раз тем и прервалось моё недолгое пребывание в посёлке. Но никак не потухали напряжённые раздумья. Сходный сюжет картин. Бедственная судьба человека с профессией коногона. Когда-то, очень давно, ещё в детские годы с такими людьми я общался, и с одним из них было у меня даже что-то вроде недолгой дружбы. Никакой связи с тем, чему я стал свидетелем теперь, в течение последнего дня, не обнаруживалось. И всё-таки – не мистика же с повторением сюжета? Мнилось, будто я имею к нему какое-то непосредственное персональное отношение. Что могло это значить?
И тут я вспомнил о Кересе. Ну да. Я ему всё расскажу. Ему обязательно должно быть интересно.
И я сразу почувствовал, что в большей мере ситуация уже как бы разрешилась. Останется вглядеться в детали, расставить акценты.
Как, однако, сложно бывает иногда заполучить то, что кажется едва ли не зримым, лежащим рядом. То, о чём я сейчас говорю, пришло ко мне только многие годы спустя. И то в большей части не впрямую от Кереса. Я уже пояснял, каким ограниченным было наше с ним общение в пределах вечной разлуки. Я не мог в подробностях обговорить загадку ни в телефонном сеансе, ни в телеграмме. Имело смысл только полное изложение дела. Какое-то время я с этим ещё тянул и в конце концов написал обстоятельное письмо другу. Уже, к сожалению, в ту пору, когда наша переписка с ним да и в целом наше общение окончательно сходили на нет.
На письмо он не ответил, но какое-то время после по телефону на мой вопрос, получено ли оно, сказал, что да и что он собирается прислать мне своё, только не будет торопиться, поскольку надо многое вспомнить, не напутать, чтобы всё, то есть, как на духу.
Ещё немного позже на мои упрёки, что обещанное не исполнено, Керес отвечал, что ничего не забыл, письмо ещё пишется, лежит у него на столе, но как-то хотелось получше оформить его окончательно. «Очень для меня любопытно», – заметил он деловито и определённо подчёркнуто, и было очевидно, что он хорошо осознавал важность и моего запроса, и своего ответа на него. И тут же ушёл от темы, предпочтя, как то обычно бывало, разговор «ни о чём».
По тону, в каком протекала эта наша беседа по телефону, никак не следовало, что Керес просто уклоняется, по какой-то причине медлит и не желает доходить до точки. И я продолжал надеяться, больше ни разу не напомнив ему ни об его неотправленном письме, ни о том нашем разговоре.
Будучи по делам в Риме, где в предместье для Кереса протекали его самые последние дни, я посетил его могилу. На неё уже была положена стандартная плита. С краю над нею стояло приземистое каменное надгробье, ничем не отличавшееся от расположенных на других могилах. Отгравированный фотопортрет; надписи на русском и на латыни. Ничего лишнего. Ни намёка на какое-либо признание. Ни слова о заслугах или хотя бы о том, что усопший – художник.
– Так он завещал, – сообщила мне его жена Ольга Васильевна, сопровождавшая меня.
Я кое-что знал об этой уже немолодой по тому времени женщине. Керес женился на ней ещё обучаясь в вузе, когда и встретил её впервые. Она была питерской уроженкой, работала методисткой в альма-матер, где учился Керес, и, в отличие от него, за границу на постоянное жительство уехала не вместе с ним, а гораздо позже. Детей у них не было.
Она прекрасно знала о его внебрачных сыне и дочери от разных женщин в Бельгии и в Австралии. Керес от неё этого не скрывал и даже рассказывал ей некоторые новости о чуждой для неё засемейной сфере, причём не об одних детях, но и женщинах, их матерях, а также и отчимах, с которыми был знаком и временами виделся на короткой ноге: они значились его коллегами по ремеслу.
Дети, уже оба взрослые, иногда появлялись в городах и на курортах, где Керес проживал с женой или задерживался по каким-то делам.
Не претендуя на полную женскую гегемонию в этой игре, Ольга Васильевна хотя поначалу и пробовала открыто выражать супругу свои оскорблённые чувства, но постепенно оставила это занятие, стихла, смирилась. В таком состоянии она в наибольшей, кажется, мере устраивала мужа, чем и уравновешивалась их долговременная, хотя и часто прерывавшаяся связь. Отлучки происходили чаще со стороны Кереса, подгоняемого разного рода коммерческими контрактами; но иногда и супруга позволяла себе, что называется, отдохнуть от брачной обыденности, выезжая на родину или в другую страну…
Скорби уже заканчивался двухгодовой срок. Было видно, что вдова ещё не оправилась от потери и основательно этим подавлена. В её благолепной и пока что не напрочь остаревшей фигуре, в чертах строго ухоженного лица, в зрачках глаз трепетали усталость и угнетавшее, сумрачное смятение. Да ещё немного – устыжённой виноватости, как то становится приметным в любой женщине, испытавшей утрату мужчины-супруга, но не перестающей быть женщиной.
Трудно было перейти с нею от скорбных и общих фраз на что-то другое. Мне между тем следовало воспользоваться случаем. Она опередила меня сама. Робко, но доверительно заговорила сначала о подробностях похорон и облагорожении могилы, а потом и о самом Кересе, которого, как выходило из её слов, она очень любила и продолжала любить.
«Мы вместе прожили хорошо и счастливо». – В течение нашей встречи на погосте она несколько раз и вполне уместно произнесла эту, очевидно, успокоительную для неё фразу, так что мне только и оставалось что отдать ей должное за её верность и преданность мужу, моему другу – как до, так и по его кончине.
– Мадам! – услышал я неожиданно со спины обращение к ней, когда мы вдвоём уже отходили от могильных рядов и, миновав небольшие низенькие решётчатые воротца кладбища, направились к проезжей магистрали, чтобы взять такси.



