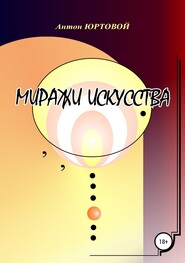 Полная версия
Полная версияМиражи искусства
Стоило, может быть, учитывать ещё и гамму нашей взаимности.
Да, был тогда Керес хорошим и даже лучшим из моих друзей, ему, возможно, не хотелось отказом портить чувства его привязанности ко мне или мои к нему. Но ведь это из какой оперы!
В том, что имело отношение к искусству, Керес, насколько я его знал, отличался редкой и завидной щепетильностью. Скажу больше: в оценках произведений, стилей, исторической правды мы с ним не только сходились, но, бывало, и схватывались, оспаривая каждый своё.
В конце концов, наверное, всё, к чему обязывают начинающего художника учительские концепции, а позднее – уже как мастера – опусы исследователей, критиков и прочей неравнодушной, а нередко и продажной братии, – это всё по сути тоже ведь – предложения. Сколько там неточного, амбициозного, вздутого! Такого, чего нельзя принимать хотя бы кому.
Керес также волен был поступить как для него лучше, не впадая ни в какую зависимость.
Не произошло, к сожалению, как раз этого, последнего. По моей ли или кого другого вине? Этого я не знаю. Частью, могло быть, и по моей.
Особенно горько мне от того, что ввиду обстоятельств, о которых я уже коротко упомянул, я оказался в полнейшем неведении относительно творчества Кереса. Творчества, которое приходилось на основной этап его жизни – как самостоятельного профессионального живописца. А это не год и не два, целые десятилетия. Начиная с той минуты, когда я от души поздравил его с удачной дипломной работой и мы расстались навсегда.
Если не считать хотя и многочисленных достижений Кереса до окончания училища, которые были всего лишь багажом подмастерья, то, собственно, только этой картиной мерил я уровень его художественной талантливости.
Всё, что он создавал позже, как бы уже следовало оценивать по ней, обходясь без наглядного, без образцов.
И мне суждено было протащить на себе груз этой оплошной и более чем странной доверительности. Казавшийся верным, сюжет опрокинулся уже при самом конце.
Только теперь ясны мне причины его развития, обернувшегося тяжёлой драмой, как для Кереса, так и для меня – её прямых участников.
Разделявшие нас расстояния и годы не могли не отразиться на качестве нашего общения. Оно чем далее, тем больше сводилось к необязательному, к условности, к примитивной игре.
Находясь на прямой связи, мы спрашивали друг у друга как дела, как здоровье, что новенького и проч., и, как это принято всеми, тратили время на соответствующие общие, мало что значившие ответы. Чувства, разумеется, говорили о большем, о том, насколько прочно помнилось нам давнее, прошедшее, как дороги нам воспоминания и что мы, вот сейчас, всё ещё остаёмся в былой привязанности, очень дорожим друг другом. Всё нормально, отвечал мне обычно Керес, когда я интересовался его успехами в живописи, в искусстве. Не то чтобы уклонялся, просто говорил, что уже торопится, извинялся. Разогнаться на нечто более важное не удавалось.
Честно скажу, было приятно довольствоваться и этим. И то же повторялось в следующий раз. В открытках и телеграммах игра сводилась к тому же или была ещё менее содержательной. Она не стала бы иной и в письмах, если бы мы продолжали их писать. В них, разумеется, мог бы открыться иной простор, и сперва нам даже удавалось обмениваться тем, что тяготело и приставлялось к искусству по высшей планке. Однако и там неизбежно повторялись банальности. Это делало письма скучными и ненужными, и мы перестали заниматься их сочинением и пересылкой, привыкая к более динамичным средствам нашего общения.
Не говоря уже о том, куда могло устремляться творчество Кереса в его стилевых признаках, моя осведомлённость не проникала и в сам результат его работы. Где выставлялись его полотна? Кто восхищался ими? Кто их покупал?
Всегда напряжённо следивший за периодикой, я не замечал даже того, что в разного рода комментариях не находилось хотя бы упоминаний о произведениях и личности Кереса.
«Если он теплотно общается со мной и для меня достаточно открыт, добродушен, воспринимается мною уверенным в себе, простым, нехвастливым и не снобом, то, может быть, это всего лишь исключение; с другими у него и счёты возможны другие, – думалось мне. – Там, – продолжал я обкатывать собственные предположения и оправдания ему, – он замкнут, необщителен, недоступен, что в среде художников и особенно с возрастом вовсе не редкость и паче того – за рубежом».
Для меня было легко усмотреть в этом простую, обыденную манеру, о которой все знают, что, кто бы её ни усвоил, она в глазах людей и допустима, и неосуждаема. Если тут у кого и возникают какие претензии, всё равно их не дано удовлетворить. Потом, рассуждал я, сам-то я хотя как будто и не одобряю чужую скрытность и отстранённость, разве я также не использую их к собственной выгоде? От Кереса в этом я, пожалуй, и не отличаюсь. Приучил себя держаться на расстоянии от текущего, от пересудов, терпеть не могу папарацци, не спешу устраивать представления тому, что появляется из-под пера, не жажду признания.
Не только я Кереса, но и он меня спрашивал не раз как мои дела, именно дела в сфере моего творчества, и что отвечал я? Да то же самое, что слышал и от него.
Полагаю, тут действует даже какой-то общий закон, уводящий любого в конкретное, персональное занятие. Расширив знания и приобретая определённые навыки, каждый на любой ступени общественной лестницы вовлекается в роли не только мастера или творца, но обязательно и ремесленника. И чем сложнее методики решения задач, тем занятие всё больше обрекается на профессиональную замкнутость. Интеллектуальные сферы одинаково с иными требуют подобной жертвы.
В таком случае высказывать в адрес моего друга что-то вроде упрёка или неясного неодобрения просто не было никакого смысла…
В этом месте я хотел бы ещё раз коснуться предметов, которые легли в основу наших с Кересом отношений.
Сами эти отношения казались мне достойными и добротными. Не было сомнений: так считал и Керес.
Однажды, не помню, в какой связи, мы говорили с ним о склонности людей меняться, часто не в лучшую сторону. Даже в ситуациях и обстоятельствах, когда вроде бы и нет к тому особых причин.
Как оценивать человека, если он, как индивидуум, личность не устоял, не сохранил себя, дал себя подчинить кому-нибудь, изменился, уходя от молодости?
По мнению Кереса, то, чем кто-либо стал и если это на пользу окружающим и всем в обществе да ещё если общество не испорчено и не угнетаемо, это всё есть идеальное, и ему неплохо бы следовать. Но оно, «что-то», говорил он дальше, ничего не стоит, если это догма, окостенелый принцип. Чему надо расти, обязательно изменится.
Я подумал тогда: вот передо мной человек; я давно и хорошо его знаю, и не было ни разу такого, что бы в нём разочаровало меня. Разве это – плохо? И только ли в догме дело – в догме самой по себе? И я задал этот последний вопрос уже вслух. Не обойтись без вариантов, сказал Керес. И добавил: они возможны и как самые крайние, жестокие, нелепые… Здесь, как я мог судить, он имел в виду, разумеется, не одного себя или только меня.
У темы не было окончания. Какой-то вариант непременно всегда нужен. Но вариантов – большое множество.
Выбор не сводится к формуле «за» – «против». С нею очень легко выявляют предателя или нарушителя устава, она своего рода указка от кого-то. Эка невидаль – выбрать всего одно из двух. Как должны распределяться роли, если формулу отбросить? И кто уполномочен заниматься распределением? Скажем, как в нашем случае: в сфере, пока только избиравшейся, но – твёрдо и навсегда, – в сфере свободного эстетического творчества.
Выросшие оба в деспотии, обряженной фальшивым официальным толкованием свободы, мы довольно просто, ещё с детства, могли уходить от хлама вульгарных и скучных условностей и представляли уже поколение, которое в самом себе и само, слушая исключительно собственные позывы, приближалось к уяснению сути свободы на свой, никем ещё не пройденный лад.
Для нас она была привлекательной и желанной не в виде яркого необычного сувенира, который следует где-нибудь раздобыть и кому-то отдать; мы нуждались в ней сами и торопились жить с нею. Люди передового склада появляются не в новой формации, а в её преддверии. Им самим надо выучиться понимать время, где они очутились.
И как же всё непросто, если взамен тяжёлых догматов необходимы не одни коллегиальные, но и личные, самостоятельные решения, по возможности более точные, порой неотложные, и каждый раз приходится их принимать, перебирая огромное число вариантов! Сколько угроз ошибиться, поступить не так! Часто ни современники, ни даже новые формации не понимают и, что ещё хуже, не хотят понимать таких людей. А, стало быть, и того, к чему такие люди тянутся, что они, будучи свободными, хотели бы сделать за свою жизнь и притом, конечно, не ошибиться в выборе. В выборе, который стоило бы приветствовать и уважать также и в других.
Кто мог бы тут помочь – дать совет, предложить подходящую модель? Советы и модели давали и предлагали всегда многие, однако ещё никому не удавалось обосновать, какая мера свободы при этом нужна. И, собственно, в каком наряде.
К примеру, у Достоевского7 есть рассуждение о «совершенной свободе», которой якобы можно достичь, будучи верующим – «через послушание всей жизни». Писатель имел здесь в виду добровольное служение старцу, представителю старчества, направления в православии, где старцами делались монахи-затворники, обрекавшие себя на одиночное проживание в скитах. Считалось, что в таком подвижничестве монах мог уразуметь высшие смыслы жизни и научать им приходящих к нему людей. Кто в качестве обычного и, как правило, начинающего монаха через послушание, то есть, если называть вещи своими именами, через бесконечно угодливое непрерывное присутствие около старца в виде элементарного слуги усваивал от него эту мудрёную и необъятную науку и находил в ней умиротворение и радость, тому и «светила» та самая «совершенная свобода». А чтобы поглубже растолковать, что она такое как бы в её конкретике, писатель говорит, что это свобода «от самого себя» и что она позволяет «избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли».
Такой вот странный изворот: «от себя» – «себя в себе». И вроде как предлагается пойти в монахи, запереться в ските и этим выделиться, приобщаясь к чему-то похожему на тайное жречество, на малочисленное привилегированное сословие. Которое, войдя в моду, могло бы стать и многочисленным.
Нет уж!
Принуждение к поступкам, если те рекомендованы хотя бы кем, лишает людей, жаждущих свободы, их душевного комфорта, доставляет боль, сбивает с житейского ритма. Их же собственные действия не во всём адекватны, вследствие чего воспринимаются многими с подозрением, с придирками. Нужно или сильно прогнуться или сломаться…
Говорю здесь не о таких действиях, которые противоправны. С ними ясно. Бандит или мошенник покушаются на чужие права. Впереди их ждёт суд. Но в областях творческой мысли, искусства, интеллекта гражданским судом формально никто никого не судит. Можно бы радоваться. Только и здесь без искажений не обходится.
Человек эстетики не может быть скреплён с догмой. В духовном аспекте это правило исполнимо. В остальном – нет.
Как профессионал, автор произведения вынужден идти к публике. А к ней примыкает и от её лица вещает также власть. Которая веками непременно гнёт что-то своё, очень часто несовместимое с культурой и с эстетикой. Со своим творчеством автор здесь подпадает под жернова, которые могут его смять. И даже трудно представить, в какие тёмные искушения способна ввести его такая необоримая униженность.
Мне вспоминается, как ещё на военной службе мы с Кересом тяготились формалистикой, а иногда и безобразиями, которые постоянно ей сопутствовали.
Однажды ему влетело за снимок торчавших на берегу на подпорках американских «хиггинсов» – торпедных катеров, поставленных по ленд-лизу.
По условиям двухстороннего соглашения, эти устаревшие суда с дощатыми корпусами следовало сразу по окончании войны ликвидировать без утилизации, то есть не оставляя от них для повторного использования ничего ровным счётом, к примеру, следовало сжечь или, ещё лучше, утопить. Ни того ни другого сделано не было. Узнай об этом американцы, крупный скандал нашей стране гарантировался бы.
Только из опасений огласки бригадное командование не отдало Кереса военному суду, назначив ему наказание гауптвахтой и разжаловав со старшины второй статьи до матроса.
Нельзя было оставаться равнодушными перед массой фактов использования срочников на строительстве и ремонте офицерского жилья, на хозяйственных, погрузочных и других работах, опять же в личных интересах офицерского сословия.
Нормой считалось выделять служивых работников не для самих офицеров, а их погибавшим от скуки жёнам, родителям или родственникам и даже детям. С матроснёй никто не церемонился. Парни отвечали разболтанностью. Падала дисциплина. Стрельбы на учениях в море всё чаще заканчивались конфузами вроде потери незаряженной, учебной торпеды.
Злополучную торпеду с красной головкой, которая после пуска и преодоления в воде предельного расстояния должна всплывать и вертикально, головкой вверх, торчать на поверхности не иначе как где-нибудь по направлению заданного курса, часто не находили, не могли найти, поскольку, замедляясь под конец в своём движении, она могла свернуть в сторону уже под влиянием даже небольшой волны или ветра, и катерников держали в море, бывало, сутками, обязывая разыскивать утерянное. Тут всё было на полном серьёзе, ведь устройство торпеды было предметом военной тайны.
Случалось, «виновных» не пускали на базу даже при штормовой погоде, когда маленькие кораблики волнами бросало как щепки.
Сам, выходя в море на катерах, я в это время буквально валился на том месте, где меня заставал очередной и всё более муторный приступ морской болезни. Не лучшим образом чувствовали себя и многие штатные члены экипажей. Не мудрено: люди болели, быстро изнашивались. Такие становились не нужны. Их, уже нездоровых, комиссовали. Те, кто тянул лямку на берегу, также не прочь были поскорее вырваться на гражданку, изобретая разные основания для этого.
Мы с Кересом, как и все, угнетались окружавшей оскорбительной обыденщиной. Было обидно, что лучшие молодые годы, а их тогда полагалось отдавать воинской службе целых четыре, истрачивались по существу впустую.
Всё тут окрашивалось ещё и тем неприятным обстоятельством, что службу на флоте парни в те годы предпочитали службе в армии, хотя армейская длилась на год меньше. Секрет был во флотском столе, в кормёжке. Она была сытнее, а это не считалось мелочью. Голодные военные годы да и в последующем ещё хорошо и ощутимо всеми помнились. Только тогдашняя пропаганда о таких позорных для страны вещах умела лишь угрюмо отмалчиваться…
Выход мы нашли, подав документы на учёбу. Срок обоим удалось уменьшить на несколько месяцев. И я так и не знаю и удивляюсь, чего это охота уже состоявшимся старым морским волкам, нашим годкам и годкам других, последующих призывов, отведавшим разного рода унижений в своих частях, плести банальные рассказы о прелестях тогдашней службы на военно-морском флоте. Будто бы там они научились жизни. Такой-то ценой! Ведь после-то всё равно приходилось переучиваться, доучиваться. А мы выходили на гражданку уже далеко не юнцами, удовлетворяться развлечениями на дворовых скамейках нам было уже не дано, права на это у нас не оставалось…
Ущербное, оскорбительное виделось не только в том, что таких как мы государство, как и в тяжелейшее военное время, выставляло под присягу во множестве миллионов. Затраты на содержание этой оравы были гигантскими, но ещё больше требовалось на вооружения, на создание новых его видов.
В дополнительные оборонные и наступательные ресурсы уходило всё, что создавалось населением. С людей сдирали кожу. Не было даже попыток объявить о причинах существующей нищеты, о необходимости отступиться от неподъёмной «мирной» программы. Политику бесцельного наращивания силы власти буквально впихивали в общественное сознание. В официальных отчётах и в директивах процветало невиданное словоблудие. Понятие мира подменялось отчаянной, слепой готовностью сжечь то, что от мира ещё оставалось.
Народ обрекался на худшее на многие десятилетия.
Так вот истрёпывали его дух…
Как было уже тогда не лелеять в себе свободу!
Пожалуй, только ею, а не бездумным рабским патриотизмом надо было вымерять себя и определять свои задачи в те годы. Вот где требовались колоссальные усилия, настоящая учёба. Это не гайки завинчивать. Сколько на этом поприще обожглось, вытряхнулось нутром, изолгалось, упало в грязь. Что в самом деле осталось от эйфории, куда пошло? Да разве же это теперь кто установит.
Кто расскажет о муках познания свободы, приобщения к ней?
Кто растолкует, почему она, свобода, на какой бы радуге её ни развешивать, в итоге практически никому никогда как не приносила, так и не приносит ни довольства, ни счастья? И так же, как самая скверная обыденность, она сплошь и рядом и губит, и разранивает нас.
Нам бывает не по себе, когда, задумываясь, мы отчётливо уясняем, что не можем её постичь. Что это как будто призрак. Наш смысловой мираж.
И разве это не истина в полной её наготе? Истина, пронизанная непреходящим горестным, жалким унынием.
Я упоминал о письмах, которые мы с Кересом успели написать друг другу. Их единицы. Керес в одном из них сообщал о некоем, совершенно модерновом стиле в искусстве живописи и в художественной графике. Стиль привлёк его внимание в стенах его вуза, где за него как будто горой стояла немалая часть профессуры, и Керес даже говорил, что готовится попробовать себя в нём. Что он имел в виду конкретно, я не вполне постиг, но помню, что я не мог не обеспокоиться.
Друг пытался вскользь укорить меня в небрежении натуральным, самым привычным или, по крайней мере, хорошо и чётко представлявшимся. Таким, которое иногда берут и предлагают как якобы плод своего вдохновенного творчества. «Легкое непонимание – себя или меня?» – подумал я тогда, пробуя доискаться глубинного смысла беспричинной, как мне казалось, Кересовой «атаки».
В связи с этим в моей памяти обнажилась одна из наших предыдущих встреч с ним вскоре после моего возвращения со службы, когда он был уже второкурсником художки. Мы вышли прогуляться в город, где, не переставая разговаривать на близкие нам темы, поразглядывали некоторые достопримечательности, отсидели сеанс в кинотеатре, а уже под конец заглянули в небольшую картинную галерею.
Живописные работы были там невыдающиеся, все провинциальные, тусклые в решениях, для меня неизвестные. Керес же, по его словам, туда заходил не впервой. Он оживлённо давал мне пояснения по поводу качества и значимости работ, но я видел, как он при этом смущался: особенного ничего ему выделить не удавалось.
– Всё какие-то выдумки, изощрения, – сказал он, когда мы вышли из помещения. Он явно сочувствовал мне, подлаживаясь под моё состояние, в котором забирала верх отупляющая скука. – А ведь сколько вокруг простого, даже элементарного, – продолжал он. – Его бы поднять…
– Ты опять говоришь не иначе как о «Пропасти»?
– Угадал. Разве она не образец?
Это был предмет, «нащупанный» Кересом ещё на воинской службе. Где-то он то ли читал, то ли слышал о любопытной картине, изображавшей развёрзнутую пропасть в гористой местности. Точка обзора для смотрящего была там выбрана так, будто он уже вплотную подошёл к проёму без дна и оставалось только сделать малейшее движение вперёд, чтобы рухнуть вниз. Художник, написавший эту вещь, озаботился передачей полнейшего сходства красок с натуральным пейзажем, для чего не однажды уходил на этюды в ближайшие горы.
Был живописец монахом и готовил своё творение тайно и с умыслом: он собирался удивить преклонявшегося перед искусством митрополита, чей приезд в обитель вскоре ожидался. Полотно он выкроил по размеру своей небольшой одноместной кельи, а разместил на полу в таком же соседнем, пустовавшем помещении.
Когда во время обхода обители митрополитом монах и настоятель ввели гостя в келью, там горела только одна скромная свеча и был сумрак. Гость, едва переступив порог и углядев западню, тут же со страху лишился жизни, бездыханным упав на злополучный холст…
Рассуждая об искусстве, о живописи, Керес любил ссылаться на эту чопорную легенду, и я уже в то время, кажется, начинал догадываться, что его восприятия как бы жаждут сполна удовлетвориться не только чувственным эффектом от картины монаха. Оттуда выбиралось, как я считал, определённое, устоенное, прямолинейное, то, что превращалось у Кереса в неоспоримое для него…
Несомненно, и картина «Мир» несла на себе элементы столь прямого выбора. Однако там натуральное, хотя и случайно, совпадало с обдуманным, было вроде как неотделимо от фантазии. Нет, мой друг вступался в письме не за неё, в том просто уже не было необходимости. И тут я вспомнил один эпизод из более позднего периода Кересовой учёбы в училище, когда мы стакнулись по поводу поделок Малевича8.
Мы – это не только я и Керес, но и ещё несколько парней, сожильцов Кереса, находившихся одновременно в общежитской комнате в тот момент. По большей части речь шла о «Чёрном квадрате».
Многим из нас не мешало бы к тому времени взглянуть на это спорное эпатажное произведение в его оригинале. Я, например, находил, что если браться о нём судить, то в дополнение к раздобытой училищем или кем-то из его воспитанников репродукции нужно бы кое-что знать об авторе такого, чего мы не имели возможности знать. Нет ли какой зацепки в подписи. Не написано ли чего на рамке. Или с тыльной стороны картины.
Моё мнение, впрочем, осталось при мне. Спор возник таким жарким, что ввязаться в него было отнюдь не легко. Да и зачем тут нужно было мнение постороннего, когда хватало своих. Спорщики прямо-таки наступали друг на друга.
Я удивился: почти половиной оппонентов поделка называлась шедевром или ближайшей верхней ступенью к этому нешуточному уровню.
Вещь не простая, говорили те, кто склонялся к таким оценкам. Её понимание требует углубления нашей чувственности, а та, в свою очередь, становится способной к восприятию сущности изображения как исходящая из непроизвольного, трансцендентного начала…
Другие решительно отказывались напускать на себя такую тьму. В их оценке «Чёрный квадрат» выглядел блеклым и почти дурным вывертом ремесленника.
Керес не был категоричным, и, отпустив пару фраз к тому, что абсолютная натурность не так уж страшна сама по себе, счёл возможным поддержать и, как он сказал, повторив чьё-то сказанное до него определение, – утончённую, ещё пока сильно скрытую в нас, механику восприятия работы. Любой, а не только вот этой, вызвавшей шумную дискуссию.
В какой-то мере такая позиция даже примирила спорщиков. «Ну, поговорили ребята, и ладно, – подумалось мне. – Ещё, может, не один раз вернутся к той же теме». В память особенно запало почему-то лишь то, что поделку рассматривали по формуле «за» – «против».
Наверное, впервые для меня она открылась тяжёлой и угрюмой догмой, разделённой надвое. Там не соединялись и не размыкались другие оттенки самых разнообразных мотиваций. В реальном виде это же вовсе не свобода!
Не-сво-бо-да!
Полученное держалось во мне ещё не до конца ясным. Лишь какое-то время спустя я понял: Кересу, как и всякому, объединившему крайности, если ему в чём-то понадобится делать выбор уже по-настоящему, на практике, обязательно придётся выбирать что-то хотя и единственное, но не только из двух. Если же такое условие выполнено не будет, с его свободным выбором должно выйти нечто такое, что, возможно, нивелирует и разотрёт его.
Не очень уверен, что в тот срок я в своих размышлениях захватывал всё в совокупности. Скорее, что-нибудь осознавалось гораздо позже. С Кересом по горячему следу мы о «Квадрате» отдельного разговора не заводили, а потом, встречаясь не так уж часто и больше накоротке, и вовсе не вспоминали о возникшем однажды коллективном споре. Таких обсуждений в комнате общежития набиралось иногда не по одному на день.
Я только думаю, что передать свои тогдашние беспокойные мысли другу, видимо, стоило бы. Это очень помогло бы ему и рассуждать, и действовать осмотрительнее. Хотя, с другой стороны, указывать на столь утончённые вещи было вроде как преждевременно или вообще непорядочно, поскольку с другом по духу мы если уже и разнились, то совсем не на много, а о будущих наших поступках просто ещё нечего было сказать…
Вот, кажется, и всё, на что я хотел бы обратить внимание, отыскивая в Кересе мотивы, какие столкнули его с дороги, по которой он отправился покорять искусство.
Не суждено было осуществиться идеальному.
После первых неудач, связанных, как я теперь понимаю, с манерой выпячивать на полотнах натуральное и с обманным расчётом на достойное понимание этой хилой продукции капризной и беспощадной властью, да и не только ею и теми, кто ей усердно прислуживал, а и всеми не любящими фальши в искусстве, не мог не последовать кризис. Мой друг этого очень не выносил, и, оказавшись не у дел, выехал из страны. Там, уже имея в виду зарабатывать хотя бы на прожитьё, он ещё какое-то время живописал, а затем остановился на художественной рекламе и, кстати, небезуспешно, сделавшись обеспеченным и даже независимым агентом.



