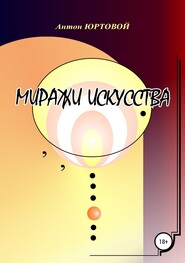 Полная версия
Полная версияМиражи искусства
Что же касается эстрады, в принципе он не свой и там. И в прежние времена, и уже сейчас исполнение на уровне оперного легко занимало и занимает строгую концертную нишу, порой очень отдалённую от эстрады. Вспомним, как в этой нише блистал сам Шаляпин. В ней поклонники пения высшей пробы встречали Паваротти, здесь выступают Кабалье, Хворостовский и другие исполнители, которые на более мелкие подмостки отсюда не стремятся. А вот такой певец, как Басков, способный отменно показать себя хотя бы в дуэте с той же Кабалье, наоборот, с удовольствием появляется на этой срединной площадке, постоянно возвращаясь к эстраде и, кажется, вовсе не жалуя оперу. Как видим, вариантов освоения разных частей общей магистрали профессионального песенного искусства набирается немало. Новое время внесло тут свои особенности. Ряд певцов, имея оперные данные, отступают от высших рубежей, сознательно перемещаясь на нижние позиции. К ним, например, сам относит себя Боярский, артист кино, лучший исполнитель роли «главного» мушкетёра.
Когда совсем ещё молодым Муслим легко переключался с «Королевы бензоколонки» на партию Фигаро, находясь вне оперного театра, то восторг, который вызывало у публики это представление, мог указывать только на то, в какой огромной отстранённости находились в тогдашней советской стране отдельные сферы культуры пения. Только спустя многие годы обществу суждено было понять, в какие дебри омертвелой, глухой креативности уводило это жёсткое разъединение.
Как это часто случается, сам исполнитель мог не знать собственного предназначения. При внимательном обзоре его репертуара такой оборот хорошо заметен. Часто им исполняемые «Ах, эта свадьба», «Светит незнакомая звезда» и другие мелодии, хотя и нравились многим, но, по прошествии времени, краски в них померкли, потускнели, бравадность и лиричность как бы перечёркивают здесь одна другую, оставляя после себя ровную остылую пустоту, подчёркивающую общую унылость объятой прошлым общественной жизни.
Уход любимца, названного Орфеем, сегодня воспринимается с особой болью, поскольку на этот раз его имя было поставлено на вид рядом с именем Высоцкого. Уму непостижимо, как можно было целые десятки лет не найти в двух этих величинах хотя бы повода к их соизмерению. Разумеется, попытки заняться этим на скорую руку не вскрыли ничего примечательного. Дело ограничилось досужим сопоставлением двух судеб. Мол, и Высоцкий, и Магомаев, будучи ограничены в концертной деятельности, даже не пробовали вырваться и убежать в зарубежье; у обоих интересы за пределами своей страны возникали как бы через их жён; оба – запредельного исполнительского уровня и потому стоили друг друга. Прозвучало даже такое, что они и как личности одинаковы и даже чуть ли не сподвижники, работавшие в связке, не существовавшие один без другого. Ну, это, будем говорить, особое мнение. Главное, в чём они оказались схожими как представители свежей, демократической волны в культурном процессе, пожалуй, состоит в том, что их исторгло и не медля вознесло ввысь болевшее, утомлённое, обезмысленное общество, не умевшее назначить истинную цену ничему – ни хорошему, ни плохому. Их заслуженное признавание в данном случае не могло быть иным, кроме как в первую очередь со стороны масс, а не правительства. Последнее только всему мешало. И то, чему оно мешало более всего, оказалось центровым для обоих. Исследователям их мощи, которою они воздействовали на умы и сердца людей, ещё только предстоит сказать тут своё веское слово.
Время, отдалившее от нас концертную деятельность Магомаева, отодвинуло от нас и его самого. Мы в России вроде как считаем его своим, а на самом деле, в связи с развалом советской империи, дело тут обстоит иначе. Любой культурный феномен неотделим от той почвы, на которой он появляется. Должны быть соответствующими и права на его наследование. Речь идёт, конечно, о правах во всей их совокупности. То, что Муслим похоронен в Азербайджане, у себя на родине, будет обозначать, что он теперь полностью тамошний – и как представитель этой страны, и как творческая личность, и как выразитель талантливости своей нации, как её герой.
Вне этого останутся только память о нём, восхищение его искромётным даром, всё, чем он умел покорять публику там, где перед ней появлялся. Россия – всего лишь одна из таких былых площадок…
Перед лицом истории
СЕКРЕТАРИ, БЛИН…
В сезоны, когда наступает пора надевать верхние утеплённые одежды и головные уборы, этих людей распознать проще простого. Им свойственна привычка бережливого дорыночного поколения – не выбрасывать носильные недешёвые вещи, каким бы диссонансом по отношению к текущей моде это ни выглядело. В такой бережливости вроде бы и нельзя видеть ничего плохого, поскольку она выражает черту ото всего общества и тем достойна похвалы; но исходящая от представителей скомпрометировавшей себя прошлой властной фаланги она в полной мере представляется и неуместной, и нелепой, а в чём-то даже и – безобразной.
Донашивать старое они были вынуждены, так как этого старого у них ещё в их времена скапливалось больше, чем того требовали персональные потребности. Не считалось у них зазорным поднакопить дорогущих соболиных и шиншилловых шуб, пыжиковых и бобровых шапок, каракулевых папах, «русских» сапожек и прочего подобного ассортимента, не говоря уж о редкостных импортных плащах, мужских костюмах и женских платьях, мебели, книгах, коврах, изделиях из хрусталя. Не по одному экземпляру и не на какой-то разумный срок носки или вообще пользования эти вещи приобретались, а про запас и помногу, зачастую ровно столько, сколько их поступало на оптовые торговые базы, где негласно действовали настоящие развитые резервации шмоткового дефицита, не предназначенного для народа. При этом каждый, кому такое было доступно, подшкурно высчитывал возможные жизненные повороты на случай, когда приобретения уже давались бы нелегко, не так, как на моменты фарта, ввиду чего остановиться в жажде накопительства было своеобразной непреодолимой проблемой.
Тому ещё способствовало и то, что в их эпоху так было всё поставлено с модой, что новое в ней почти не могло пробить себе дорогу и практически не проектировалось. То, что уже было задано как стилевой знак, удерживалось прочно и долго, мало изменяясь на протяжении десятилетий, повторяя или копируя динамику тогдашнего партийно-государственного застоя в целом. Относительно подвижным процесс был, пожалуй, только в тех сферах, где властная фаланга входила в прямое соприкосновение с заграницей. Тут не любили ударять в грязь лицом.
В наши дни, встречая где-нибудь в малолюдном переулке пожилого, измождённого временем человека, одетого, скажем, в основательно уже немодную, провисшую на плечах, выцветшую дублёнку, со столь же примятой временем ондатровомеховой шапкой на голове, только и сможешь выразить к нему своё отношение в виде сочувствия: нелегко бедолаге в статусе отстранённого от власти. Он идёт будто прячась; на людной улице ему неуютно. Что с того, что он когда-то был многосилен и влиятелен? Ныне это отброс, который уже никуда не приладится. Нет ни горделивой осанки, ни уверенности в себе, ни круговой спеси, и здоровья, конечно, тоже нет, ведь годы идут и идут. Возникает чувство жалости и тоски, как при встрече с настоящей современной бедностью и беспросветом. Это, как я полагаю, вовсе не потерянность и пришибленность из-за нахлынувших обстоятельств. Просто внутри, в душе не было и не могло быть ничего от смелости, от осознания своей персональной твёрдости хотя бы в чём. Раз там селился шмоточный интерес, то и всё остальное, вылезавшее наружу, должно иметь соответствующий окрас. Та самая неосновательность и нищета смысла. Хоть как-то скрыть их могла разве что умышленная показуха, которой в застоявшемся обществе была буквально пронизана и напитана вся окружавшая действительность и духовность.
Обладая властью, занимая в ней все возможные и часто даже выдуманные ниши, эти странные люди становились поистине беспощадными в оценках состояний простого человека, из-за их жадности полностью лишённого качественных имущественных или сервисных благ. И как бы ещё в насмешку над униженными сословие власть имущих что ни дальше во временном тупике, то всё больше поощряло старание работных людей производить товары, не совместимые ни с обиходным назначением, ни с условиями моды. Так называемый вал, как символ производственного отчёта, был и в самом деле валом, сметавшим на своём пути, казалось, всё, доступное пониманию потребителя. Нынешние социологи и политологи то и дело укоряют погибший режим: всё, мол, было тогда в дефиците. Неправда! Заходя, к примеру, в магазины одежды, каждый испытывал отупляющее чувство от неизменного изобилия, размещаемого на прилавках, подставах и стойках. Товары лежали целыми затхлыми кучами. А где они выставлялись на вешалках, трудно было просунуть ладонь, чтобы отделить для рассмотрения какой-то из образцов. Другое дело, что всё это изобилие никому не нравилось, было изготовлено безобразно или даже испорчено. У меня, например, руки длиннее усреднённого «норматива», и я в течение десятков лет не мог для себя найти в магазинах и лавках ни одного подходящего пиджака, ни одного пальто, ни одной рубашки. Все они шились накоротко, из-за чего напрочь от меня отторгались. Деваться было некуда, в конце концов, стиснув зубы, покупал то, что предлагалось. А сколько недобрых эмоций набиралось в чувствительных женских натурах!
Во что пытался их одевать-обувать окаянный строй? Сколько пролито слёз девочками-подростками и девушками, не знавшими, где приобрести хотя бы то простое, которое годилось бы напоказ перед избранниками сердца, на самую обычную вечеринку! Такого не находилось. Часто не находилось вовсе. Для женских ножек обувные предприятия выпускали массовые поделки исключительно малых размеров, до тридцать восьмого, в лучшем случае – до тридцать девятого. То, что размером выше, найти оказывалось невозможно ни за что на свете, бейся женская душа хоть об стену. Существовал, правда, сектор обувных мастерских, принимавших индивидуальные заказы от населения. Но то был заведомый примитив. Отсутствовали нужные поделочные материалы, модели предлагались неудобные, невзрачные на вид, непрочные. Из-за этого разместить заказы могли только редкие желающие. Для большого числа клиенток так и суждено было оставаться босиком. Ни за порог выйти, ни на работу устроиться. Что касалось элиты, то на неё работали отдельные мастерские, ателье, лечебные учреждения, столовые и проч. Состав их посетителей определялся тем, какое место занимал тот или иной человек в номенклатурном ранжире.
Такое вот наблюдалось общественное «равенство». Даже в том случае, когда кому-то удавалось получить добро от всевластных на приобретение дефицита, кончалось всё, как правило, печально и оскорбительно. Обещанное или «выделенное», не церемонясь, присваивали завмаги, товароведы, продавцы и другие исполнители, чтобы иметь свою выгоду. Отличались они стабильной неподконтрольностью даже своему непосредственному начальству, нравом были сущие хамы и стяжатели. Дефицит превращал их в потаённое, презираемое, гнусное сословие. Перед ним люди были бессильны, приходили в полное отчаяние. А между тем вал наработок и поступления некачественных, не подходящих к употреблению вещей в торговые сети всё продолжался. Магазины и склады трещали от барахла. Его беспощадно и методично списывали и, следуя инструкциям, по актам уничтожали, разбивая или сжигая, или же давали ему ход в утиль, в переработку, на сырьё для того же бессмысленного поточного производства товаров так называемого «народного потребления». Процессу утилизации сопутствовало повальное воровство.
Высокомерие исходит не оттого, что есть бедные и богатые по признаку наличия имущества и доступа к благам. Оно расцветает при отсутствии культуры духа, когда утрачивается желание понимать, что происходит вокруг, чем ты обязан другим. Когда полностью размывается сочувствие к оскорблённому. Своеобразная отделённость от массы может восприниматься отделённым реальной, ничем не сдерживаемой свободой. Осудить её снизу оказывается невозможно. В таком значении она обрекается расти до масштабов немыслимых. Высокомерие, становясь публичным, дробится на отдельные, порой очень яркие приметы сословного вырождения.
Войдя первый раз в кабинет Березина, первого секретаря Мордовского обкома, я, естественно, не мог не отметить для себя некоторых элементов ритуала, в которых ему было свойственно вести беседу с посетителями. Стандартное для партийцев-бонз бодрецкое вставание из-за письменного стола, выход навстречу, приветствие как голосом, так и пожатием руки, почти мягкая, тихая речь, не прерываемая из-за приглушённого, почти беззвучного стрёкота телефонов. Тон деловой, ровный, толковый. То, что может решаться неотлагательно, так сразу и решается. Веришь, что и обговорённое на будущее также останется во внимании, не забудется и непременно решится. Но зачем он раскачивает себя в кресле? И будто бы готов превратиться в чудовище, если то же самое позволю себе я. Скрипят детали креслового скелета, скрипит кожа сиденья. Ощущение превосходства надо мной давит на меня, на мои чувства, лишает устоенного в кабинете комфорта. Мне, разумеется, раскачиваться ни к чему. Хотя программа визита вышла целиком к моему интересу, в памяти остаётся оскорбительная зарубка: при случае этот человек может смять меня одним лёгким жестом. Годы спустя как раз к тому всё и подошло, уже, правда, с довольно слабым зарядом: партийная абсолютная власть того, последующего времени катастрофически рушилась, падала и проявляться могла не столь губительно, как раньше. Травля в отношении меня, тогдашнего репортёра «от» Москвы, с подачи первого состоялась по той же технологии, как и предусматривалось обычаем, однако я мог уже и посопротивляться, и в каком-то смысле даже дать сдачи, что, в конце концов, и решало исход той истории, как я считаю, в мою пользу. Впрочем, по этой части я уже немало рассказал в предыдущих заметках. Здесь – о другом.
Раскачивание в креслах у первых лиц входило в дурную моду.
Когда в Темникове я впервые зашёл к Кулакову, он, выславший мне навстречу машину и ждавший меня, с кресла не встал и, качаясь в нём, спросил, есть ли у меня документ. Я знал, что это могло быть связано с близостью к секретному Сарову, и показал удостоверение, на что визави, как бы в оправдание за лишнюю формальность обронил: это, мол, просто из любопытства, никогда такого не видел и не держал в руках. Беседа уже началась, он так и сидел в кресле, качаясь. В одну из небольших пауз я попросил показать мне его документ. Кулаков зашёлся бледностью, привстал, суетливо порылся в карманах пиджака. Чувствовалось, как он старательно и быстро упрятывал страх. Подавая корочки, улыбнулся лёгкой гримасовой улыбкой. Я тоже никогда не держал в руках удостоверения первого секретаря райкома, сказал я ему. Мало-помалу он приходил в себя. Кресло поскрипывало только в отдельные моменты. Из-за чего он убоялся? То ведь была шутка, не более…
Прошло какое-то время, я узнал его ближе, услышал молву о его поборах. От подчинённых он принимал самое разное и в немалых размерах. За что и был снят с поста. И больше к партийной работе допущен не был. В то время это обозначало, что мздоимствовал он, как сейчас говорится, – по-крупному.
Мздоимцы появлялись на виду так же естественно, как пузыри над загнившим болотом. Партия очищалась от них почти всегда не напрочь, а сохраняя для себя на других ролях, не обязательно с понижением. Делалось это с невероятной быстротой, так что общественность порой не успевала уследить, куда подевался тот или иной имярек, а уж о причинах переброски партийные власти предпочитали не распространяться вовсе. Ну там какой-то уклончивой фразой в докладе, неопределённой строкой в газетном отчёте.
Партийная открытость всё же существовала. Даже я бы сказал больше: обнажённость. Причём, если в низовых организациях это проявлялось через процедурную догму, усекавшую соотношения с вышестоящими партийными органами, то по мере подъёма наверх обнажённость выглядела даже почтительной и привлекательной. Разумеется, она предназначалась лишь для внутреннего, закрытого использования.
Постоянно присутствуя на заседаниях бюро обкома, я слышал и суровые критические отповеди секретарям-шалопаям, и вычитки из постановлений о наказаниях. Ни одного грубого разгонного разбирательства я не помню. Соблюдался вежливый и достаточно доказательный стиль. Это предусматривалось изначально, как средство повышенного дополнительного влияния на критикуемого, на весь ход того или иного процесса. Стиль прочно удерживался в кабинетном общении. Там говорили тихо, размеренно, тщательно подбирая слова и выражения, не торопясь. Уложить это в понятии было нелегко. Внутренняя партийная жизнь утекала к общему жизненному потоку вроде как по особому руслу, не выходя за свои края, в ней, казалось, начисто отсутствовал динамизм.
Попадавшие в разбирательские передряги в большинстве отличались какой-то бычьей стойкостью перед возможными и действительными санкциями. До вызова «на ковёр», находясь ещё в коридорах, они имели вид перепуганный до обморока, жалкий и хилый, ждали, снова и снова перелистывая отчётные и запасные бумаги; представ затем перед иерархами, краснели, исходили потом, дрожали телом и голосом. Но вот разборка завершена, санкция впаяна, а, глядишь, растерзанности, обречённости ни на ком нет. Довольствовались тем, что избиение не перешло в изгнание. А те, кто наказывал, будто сразу о разобранных забывали, так как подпирали рассмотрения многочисленных новых дел.
Как редкое исключение, помню атмосферу фатального разбирательства персоны Епишкина, первого по Кочкуровскому району, устроившего настоящую слёзную истерику. Назначение он получил из Темникова, в бытность Кулакова числился у него вторым. На новом месте не потянул; хозяйственные и прочие дела катились вниз. Вердикт не мог быть щадящим. Уже снятый с должности, давясь от слёз, партиец омерзительно выпрашивал возможности остаться на посту, выкрикивал уверения и клятвы, что исправит ситуацию. Зал заседания бюро обкома он покинул словно тяжело больной, шатаясь, рыдая, весь мокрый от слёз. Так вёл бы себя слабак, приговорённый к расстрелу ни за что. Позорная сцена. В ней высветилось очень много драматичного из того, что удавалось упрятывать в себе другим, с бычьим терпением к собственной боли.
Было бы неверно, выделяя обстоятельства обыденной внутренней партийной жизни, говорить только о партийцах. Острия подкаблучного служения касались любого клерка исполнительных органов, любого комсомольского или профсоюзного функционера, а уж руководителей-хозяйственников – тем более.
Их коробил даже небольшой спрос, исходивший сверху. Для них судьбоносное значение приобретал моральный аспект передвижения по служебной лестнице в том нехитром его смысле, когда передвижение могло восприниматься при оценке их деловой пригодности и в целом, и – в элементарных пересудах. Здесь появлялись очень весомые причины дрожать и теряться.
Ещё, надеюсь, у многих, кто постарше, на памяти попытка суицида Силютиным, заместителем председателя Совета министров автономной республики. Красавец-мужчина, ведавший сферой распределения товаров и услуг, блистал в шикарной кожаной куртке, выглядел безупречно свежим, активным, почти весёлым. Пост ему достался легко, он был выходцем из первых секретарей районного уровня, отличался приятной общительностью, ни к кому не выказывал высокомерия, при этом ловко используя методику оскорбляющего кастового дистанцирования «по умолчанию». И вдруг что-то зашуршало в номенклатурной нише не к его пользе.
Заговорили о понижении в должности. Тут и наступил конец наружному благодушию. Прогремел выстрел в висок, где пуля застряла в кости и ещё на годы уберегла трусишку от самого худшего, а одновременно выставила его на общественный и административный позор. К чести этого отторжённого, удар судьбы он принял стойко, много лет после продолжал работать в системе торгового предпринимательства, не замыкался в себе, не дурил себя алкоголем. Что тут служило стержнем, вряд ли кому удалось бы объяснить по-простому. Может, то самое, бычье?..
Обстановка страха потерять пост, а с ним и должностные привилегии требовала полной отдачи и даже сверх того. Не доверяя никому, первые брали на себя как можно больше, решали практически всё. Начинали рабочий день от пяти утра, служебной суетой занимались до позднего вечера, отказывались от выходных. К такому распорядку привыкали и подчинённые. Львиная доля энергии уходила на уяснение верховных директив. Постановления вышестоящих инстанций вычитывались безотлагательно, и тут же раскручивалась работа по их шаблонному бездумному исполнению. Потребность в инициативе состояла только в том, чтобы исполнитель как можно раньше и бойчее заявил о готовности поддержать установки. В оборот запускались цифры неких очередных будущих достижений. Потом они использовались в отчётах, и нередко получалось так, что при полном отсутствии динамики или при потере хозяйственных темпов «достижения» всё же «были». Из года в год «раньше» начинали посевную, большими становились удои коровьих стад, привесы мясного скота и проч. Соответственно «рос» жизненный уровень.
Никто из исполнявших не давал себе труда одёрнуть себя, остановиться в сомнительном старании, выразить несогласие. Об этом, кажется, даже не могли думать. Тупели интеллектом, так что впрок не шли ни обязательная мало-мальская образованность, ни ознакомление с новинками художественного творчества, с текущей и прошлой культурой. Теряя здесь, как и во всём, чувство реальности, они лишали себя понимания смысла действий и устремлений человека, так сказать, массового, называемого простым. В сочетании с неподотчётностью перед обществом это подталкивало касту к усовершенствованию паразитизма, к неумеренному самовосхвалению, ко вседозволенности, к унижению зависимых, к насилию над их волей.
Журналисты, среди которых суждено было вырастать многим талантливым литераторам, думаю, помнят, как бесцеремонно рассматривался их каторжный подцензурный труд того периода. Им был вменён своеобразный оброк в виде отработки за получаемый оклад. Выражалось это в обязанностях находить и готовить к печати или для эфира материалы нештатных авторов. Такая работа не оплачивалась исполнителю, и в объёме она занимала до сорока процентов от месячной нормы. Нештатные же поощрялись гонораром, а то и премиями. Заведённый порядок развращал всё до основания. Кому было интересно напрягаться за других? Каста отщипывала тут немалый куш. Литсотрудник написал статью за кого-то, а тот, поглаживая брюшко, расписывается в ведомости о получении «положенного». Секретарям и соответствующим им по рангу ведомость и деньги приносились в их кабинеты.
Ущемлёнными оказывались словесники всех эшелонов. От чужих лиц задарма писались не только статьи, но и книги. В случае с Брежневым, на которого пыхтел Аграновский, было, кажется, то редкое исключение, когда за труд подневольный что-то да получал. В отличие от партийцев и функционеров дозастойной поры новая их волна совершенно не была расположена и не умела писать тексты самостоятельно. Всё чаще лезли они и в авторы-прилипалы – при создании разного рода сборников, монографий. Сказать, что это выглядело возмутительным, значит, не сказать ничего.
Во всей истории отечественной журналистики, подконтрольной партии, не найдётся, пожалуй, ни одного примера, когда якобы автор хотя бы добрым словом и от себя публично отблагодарил подневольного исполнителя. Не выражалось благодарностей и в приватной обстановке. Отъём чужого рассматривался как сам собой разумеющийся. Мне однажды позвонили из обкома. В редакции журнала ЦК вызвала интерес моя заметка с Саранского приборостроительного завода, помещённая на ленте информагентства. По этой теме пишите объёмную статью, в редакции и на предприятии вас не обидят, пообещали мне. Днём позже, при согласовании параметров и акцентов публикации, оказалось, что ещё одним автором будет секретарь заводского парткома Якушкин. Само собой, он палец о палец не ударил, чтобы подсобить, хотя бы не пером, так мыслью. А оплата досталась почти вся ему. Я получил крохи. Прилипала при выходе статьи в свет не соизволил даже вспомнить вслух о той «совместной» со мной работе. Будто ничего и не было.
Каждый раз для подобного третирования у них находились всё новые и новые приёмы. За чистую монету нельзя было принимать ни приглашений пообедать в какой-нибудь столовой или с выездом на природу, ни какой-то мелочной услуги. «Внимание» проявлялось исключительно за чужой счёт, было частью допускавшегося ритуала общения, никак не больше.
По неким служебным делам, меня не касавшимся, в Мордовию занесло корреспондента из Бухареста, моего коллегу по учреждению. Мы не могли не встретиться. Поскольку его визит не курировался в обкоме, сопровождение выпало на меня. Миссия требовала хоть какого презента. И тут я столкнулся с непреодолимым. Не добившись ничего от партийцев, я обратился к тогдашнему первому секретарю обкома комсомола. Буквально за час до визита к нему я встретил начальника политотдела Явасской зоны (известный всем Дубравлаг). Сочувствуя мне, тот пояснил: в обкоме комсомола должны быть комплекты шахмат, изготовленные зэками, вещицы почти художественные, в его распоряжение на сувениры передано с десяток буквально днями. Подумалось: подходяще вполне. И что же?



