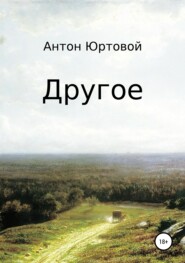 Полная версия
Полная версияДругое. Сборник
Такие законы сомкнуты в особом «пакете» – в естественном праве, и сведениям об этом виде права как раз и суждено было стать как бы выключенными из понятия, умещаемого в слове «естествознание».
Тысячелетия официальная юриспруденция занималась разработками лишь предмета государственного права, той части правовой сферы, которою выражались амбиции политических режимов. Те, кто её обосновывал, всегда открещивались от начал естественноправовых, не пытаясь различить в них реальной ценности и пользы.
Чаадаев, например, писал: «Никакая сила… не заставит нас выйти из того круга идей… который признаёт лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном…»
Теперь пришла пора убедиться, насколько такие установки ошибочны. Дело в том, что при наделении человека правами он обретает и некие свободы. В государственном праве это свободы по преимуществу характера социального; их допущение – прерогатива государства. Там же, где властвует право естественное, свободы, наоборот, предоставляются ему неофициально – «от лица» природы. И не только ему, как индивидууму, а и всему человечеству. Они – неотторгаемы и не подлежат записи. Таковы в первую очередь те из них, которыми люди пользуются, удовлетворяя свои насущные естественные потребности и отправления, – смотреть, слышать, обонять, любить плотской любовью, принимать пищу…
Не придавать им значения – не лучший способ устройства общественной жизни. В настоящее время проблемы их уяснения и опоры на них не только до чрезвычайности актуальны, но и по-настоящему тревожны. Безотлагательно заняться ими обязывают негативные последствия не стихающей до сих пор эйфории, связанной с получением землянами новых политических и гражданских свобод и прав, с их изобилием, никогда раньше не знаемым.
Те из них, которые были завоёваны в ходе устранения феодальной формации и провозглашены как символы современной, капиталистической демократии, при ближайшем рассмотрении способны резко поубавить воодушевления и гордости у их сегодняшних приверженцев и апологетов, если не говорить о большем – об их полном разочаровании в пристрастиях к указанным символам.
О чём здесь конкретно речь? О том, что этими символами лишь украшен фасад современной демократии; – за ними скрыты и уконсервированы вековые дремучие заблуждения и предрассудки, вследствие чего употребляемая символика размещается в человеческом сознании лишь в виде слепых уверований.
Наибольший вклад со знаком «минус» внесла при этом официальная юриспруденция: из-за её неразборчивости многие нормы государственного права скроены так, что в них умещён целый ряд базовых положений права естественного, что недопустимо. Демократия в таком «наполнении» несостоятельна, поскольку надлежащей действенности провозглашённых прав и свобод – не обеспечивает.
Ссылки на одну только свободу слова, гарантированную в конституциях многих стран, вполне, полагаю, достаточно, чтобы уяснить, как при введении столь приманчивых терминов выхолащивается их суть. Никакой суд в мире не может принять, рассмотреть и тем более удовлетворить иск об ущемлении права на свободу слова. Причина этому та, что обычно свобода слова, как данность юридической терминологии, ни в основных, ни в рядовых законах и кодексах не получает внятной расшифровки – что ею обозначается? Говоря иначе, в ней нет содержания; – это – фикция. Употребляться в качестве правовой нормы прямого действия она не может.
Из-за чего же её провозглашают?
Свободой слова заменили право свободно выражать суждения. Будто бы ничего подозрительного. Но то, что отбросили при замене, вовсе не относится к области государственного права. Это – норма права естественного. Подобная тем, какими каждый человек не может не обладать как однажды рождённый.
Законодатели, скорее всего, не очень задумываются над тем, насколько они бывают беспринципны и вероломны. Вся новейшая официальная юриспруденция оказалась измаранной безграмотными решениями в области правотворчества. Скажем, как возникло понятие массовой информации и каков его смысл? Разобраться в этом нелегко. И разбираться не стали. В законах записано: свобода массовой информации гарантируется.
Но так ли уж гарантия тут нужна и может ли массовая информация быть свободной?
Исследовав эту тему в работе «Последний завет», я пришёл к выводу: массовая информация есть не что иное как товар, производимый на медийном конвейере, но не фиксируемый в отчётных папках производителя.
Если давать ему свободу, то есть обеспечивать состояние, не обусловленное хотя бы какими-нибудь ограничениями или зависимостями, то, значит, её следует в такой же абсолютной «величине» давать колготкам, очкам, танкам, топорам, сковородкам и тысячам других товаров. В высшей степени абсурдной была бы при этом и гарантия их свободы.
Особого внимания заслуживают манипуляции при сотворении привлекательной правовой нормы о запрещении цензуры, где цензура, как слово, равна запрету. Как и свобода слова, эта «норма» «вытащена» из области естественного права: там бесчисленные запрещения устанавливаются компетенцией человеческого сообщества, отдельных сообществ и личностей.
Провозглашение её запрета в законах было продиктовано той цензурой, какая практиковалась церковной инквизицией и властями, предрасположенными к искоренению оппозиции. Для цензурирования они учреждали специальные органы. А те, как известно, не были щепетильны в выборе средств и приёмов подавления общественного плюрализма. Новейшей политикой специальные органы ликвидированы. Их возрождение рассматривается как зажим или даже как отмена свободы слова, как преступление. Из опасений вернуться в омуты былого идеологического насилия и измышлен феномен запрещения. Но – чего добились?
С ним опять обошлись, не утруждаясь объяснениями, – что понимать под цензурой? А без этого её запрет обозначает провозглашение ценности «вообще». Использовать её в судопроизводстве невозможно, и она опять же служит только украшением на фасаде ложного правового прогресса.
Действие цензуры вовсе не остановлено. В естественном виде она используется людьми для умалчивания о суждениях, дабы их поток и излишества не приводили к хаосу мнений и к соответствующим бесконечным препирательствам и конфликтам. Невозможно обойтись без неё всюду, где бытует общение и циркулируют хоть какие-то сведения. Это надо понимать так, что «водиться» с нею не перестают не только обычные граждане, а и корпорации, само собой – и государства.
К примеру, сокрытием информации или установлением препон для неё, то есть тем же, в чём преуспевали прежние цензурирующие органы, заняты службы государственной тайной полиции, разведки, правительственные пресс-центры.
Сказанное ясно указывает на причины возникновения правовых натяжек, несоответствий и недоразумений. В отношении свободы и гарантирования массовой информации это элементарное незнание – чего к чему. А такие «ценности» как «свобода слова» и «запрещение цензуры» обусловлены незнанием уже предмета конкретного – сущности естественного права. И незнание здесь, можно говорить, – полнейшее.
В моём эссе «Гамлет и Маргарита» дан расклад естественного права на подвиды соответственно их роли в обеспечении функционирования человечества, корпораций и индивидуумов.
Здесь анализ привёл меня к определению особой значимости высших идеалов, которые понятны всем и буквально все живущие так или иначе вынуждаются соизмерять с ними свои эмоции, намерения и поступки.
Такие идеалы выражаются в понятиях справедливости, чести, достоинства, благородства и других им подобных; они образуют нашу мораль и нравственность или этику – тот верховный подраздел естественного права, который я предложил именовать неписаной всеобщей конституцией землян; – учреждалась она спонтанно без указания срока действия, то есть навсегда и так же, как это имеет место в отношении любых других естественных прав и свобод, не подлежит отмене или исправлениям со стороны кого бы то ни было.
Не искушённая в столь простых истинах и отстраняющаяся от них официальная юриспруденция обречена постоянно отставать в своём развитии и устремляться в тупики.
До сих пор ей неведомо, что представлял собой так называемый «кодекс чести» – свод неписаных установлений рыцарско-дворянского образца, бывший господствующим в западной Европе в эпоху позднего средневековья и Ренессанса, а затем распространившийся в других частях мира. Я о нём первым рассказал читателям в названном эссе.
Имея все признаки естественного права сословного, то есть корпоративного, он претендовал быть подобием негосударственной конституции на территории своего влияния и в определённой мере мог ею считаться – несмотря на свою сословную ущербность и ограниченность.
Как раз под его воздействием происходило диктовавшееся временем возвышение достоинства человеческой личности вообще и стартовала эмансипация женщины, что знаменовало укрепление тех общемировых принципов гуманизма и социального прогресса, какие широко афишируются сегодня.
Разве не резонным было бы оглянуться на такие прежние духовностные приобретения, с тем, чтобы воспользоваться опытом в анализе общественных процессов своей, текущей эпохи? Ведь потери, связанные с игнорированием и недооценкой выгод от такого заимствования, всё прирастают. По утверждениям уфологов, множатся признаки развала и гибели цивилизации наших дней. Без учёта естественноправовых начал усилия по предотвращению неизбежного могут оказаться безрезультатными. Естественноправовые ценности, взятые в совокупности, – тот резерв, которым нельзя не воспользоваться едва ли не в первую очередь там, где идёт поиск вариантов замещений человеческого интеллекта робототехникой.
Вне рассмотрения с точки зрения естественного права остаются многочисленные проблемы личностного порядка.
Наиболее существенная из них связана с интимом, с разводами в семьях. Любовь к половому партнёру не может регулироваться никакими искусственными законами или установлениями. Уход супруга к другой избраннице или, наоборот, – супруги к другому мужчине воспринимается как обыденность именно в силу неписаного закона свободной любви, права на неё. Тут никто не ответственен по суду.
В условиях ускоренного расширения спектра свобод и прав идёт обвал семейных ценностей, и государствам с их юриспруденцией попросту не дано справиться с этой напастью.
Счёт разводам идёт на миллионы даже в странах со сравнительно небольшой численностью населения. Перспективами уменьшения урона на этом поле хотя и заняты, но – неизменно уповают на меры только запретительные, что делает их изначально неэффективными или вовсе бесполезными.
Игнорируя и отторгая естественное право, юристы, можно сказать, подрубают сук, на котором находятся. Ведь нельзя же зачеркнуть очевидного: основанием для государственного права сплошь и рядом становятся элементы права естественного, вследствие чего они, оба часто оказываются во взаимодействии или даже – в тандеме.
Взять факты физического насилия над личностью, подпадающие под юрисдикцию уголовного кодекса. В них дают себя знать неисчислимые человеческие побуждения и эмоции, естественные для каждого. Судом пресекаются, конечно, лишь действия, совершённые вслед за побуждениями и эмоциями и представляющие опасность для жизни или здоровья кого-либо.
Но – необходимы оценки таким действиям и через их этическую мотивацию.
Здесь – тот общий случай, когда осуждённый за насилие над личностью становится осуждённым также и за неумелое или неадекватное управление собой, своими побуждениями и эмоциями, то есть в конечном счёте за нарушение также и принципов естественного права.
Столь же велика зависимость от естественноправовых начал в экономическом пространстве. Человек что-то украл, недоплатил, смошенничал. Не подлежит сомнению, им руководили корысть, жажда присвоения чужого, зависть, что-то ещё.
Такие составляющие общеизвестны. Они и для суда не секрет. Только они интересуют его меньше всего. Упор делается на том, сколько человек украл, недоплатил, насколько смошенничал.
При такой практике публичная юриспруденция не предрасположена к уяснению состава преступления во всей его полноте. А, стало быть, не приходится говорить и о воспитательной значимости судебных решений и даже – о независимости судей.
Что такое их независимость, провозглашаемая в актах законодательства? Может ли она не исходить из понятий и соображений морали и нравственности? Например – прежде всего таких, как «справедливость», «совесть», «честь»? Пренебречь ими не взялся бы, пожалуй, никто.
В целом отстранение от естественного права, отказ признавать его огромное неубывающее значение никак не совместимы с тенденциями глобализации в мировом масштабе.
Все цивилизации на земле оказались бессильны обуздать устремлённость людей к неограниченному обогащению. О такой цели стыдливо умалчивается. Это – табу. Когда сегодня человек становится очень богатым, то лукаво изрекают, что богатство им, дескать, заработано. Тем самым упрятывается официальное молчаливое признание государствами полнейшей, абсолютной свободы в приобретении благ каждой личностью – нормы весьма сомнительной. Её де-факто узаконивают. Но ведь абсолютной свободы нигде и ни в чём не может быть, поскольку в такой «величине» она полностью исчерпывает саму себя. Государства, впадая в противоречие, вынуждаются не иметь с нею дела, устанавливая собственные правила распределения благ.
Но насколько эти правила справедливы и чем оправданы?
В их несовершенствах скрыты причины злоупотреблений властью, коррупция и другие асоциальные факторы, когда легко вызревают вселенская жадность и ненасытность обогащением. Эту злополучную сторону общественного бытия ярко высвечивает ускоренное увеличение фаланги миллиардеров. Становится обыденностью неумеренное потребление материальных благ; опережающими темпами богатства проедаются, что ведёт к устопориванию их воспроизводства. Распинаются мораль и нравственность, которыми жадность и ненасытность обогащением извечно осуждаемы.
К разрушению этических ценностей, идеалов чести и справедливости, выходит, в наибольшей мере прилагают усилия не только отдельные, «плохие» люди, а главным образом государства – поощряющие низменное в человеке…
Здесь свою угрюмую лепту вносят и религиозные конфессии. Они тоже позволяют себе умыкать важнейшие формулы естественного права, выдавая их за постулаты собственной, так называемой религиозной этики – в качестве будто бы единственно верного воплощения начал общественной духовности. Ценности такого покроя провозглашаются уже как превосходящие всё, что есть в «обычной» этике, – несмотря на то, что они не бывают и не могут быть ни всеобщими, ни вечными.
Консолидация населения конфессиями, желательная сама по себе, то есть будучи понятием «вообще», также коварна в своей глубинной сути, поскольку её плоды нередко используются для разжигания национализма и шовинизма, в провоцировании межрегиональных и международных конфликтов, в захватнических военных приготовлениях и в других неблаговидных целях.
Теперешнюю цивилизацию, подверженную постоянной порче, невозможно ничем оправдать в её жажде возвеличить себя правовой системой, при которой право естественное, как отнюдь не менее важный регулятор состояний личности, обществ и человечества, отодвигается на обочину. Силой и эффективностью с ним не может сравниться ни один государственный правовой кодекс. Ведь официальные установления бывают годны лишь на ограниченный срок, иногда на время действия одного правительственного органа или одного, пусть даже талантливого и популярного верховного должностного лица.
Людям бывает горько, когда они убеждаются в эфемерности и в обманчивости получаемых гражданских прав. Для каждого, поэтому, ближе право естественное с его вечными идеалами; только в нём он может сознавать себя по-настоящему свободным – в той разумной и допускаемой мере, которою обеспечивается формирование «усреднённой» личности, не претендующей иметь притязания выше, чем они могут быть у окружающих, у всех.
Провозглашённые корявые символы, будучи словесным балластом, способны приводить лишь к искривлениям наличного правового пространства, к запутыванию смысла норм общественного бытия и общественной духовности. По нраву они только демагогам, понаторевшим в бесполезном доказывании преимуществ и правильности того, что у всех перед глазами.
В этих обстоятельствах принципы осуществляемой «самой передовой» демократии остаются неизменными – великой иллюзией издёрганной, замороченной современности.
Излишне подчёркивать, какие огромные потери обусловлены ею в интеллектуальном творчестве, прежде всего – в эстетическом.
Литература, искусство и культура, совмещённые с хилыми суррогатами официального права, находят утешение в агрессивной эпатажности, в пренебрежении реальностями, в мимикрии.
Режимом насилия скованы авторы сочинений по истории. Поощряется их труд в угоду правительствам, им присуждают учёные степени, хотя по большому счёту история вовсе не есть наука. Это не более как повествования о подлинных событиях прошлого и их участниках. При их изложении автор волен руководствоваться любыми концептами и представлениями, и здесь мерилом его вклада могут служить лишь его талантливость или её отсутствие. Государства преступно лишают его естественного права на свободный выбор с целью присвоения наработок в их национальных, популистских и других интересах. Так они делают историю разменной монетой своей сумбурной политики.
Ущербное государственное право, подминая под себя человека, понуждает его обращаться к той части своих наихудших внутренних устремлений, которым созвучно понятие бескрайней, абсолютной свободы с её нелепостями. Там, у её порога, он, склоняясь ещё и к стимулированию себя дурманящими веществами, может поступать как ему заблагорассудится, и для него уже ничего не могут значить ни право, дарованное со стороны, от государства, ни то, что даётся ему с рождения. И горе той стране и тому сообществу, где столь извращённое поведение обернётся привычкой для многих людей или даже станет массовым.
Наше крепостное право
Не один раз историки нашего отечества по ходу своих исследований выставляли напоказ очередное важное событие прошлого. Брали что-нибудь и на все лады раскатывали.
В последние времена это происходит с подачи государственной власти. От её лица в указе или в постановлении обращается внимание на значимость какой-нибудь даты или исторической личности, на необходимость набора посвящённых им мероприятий; под такие программы тут же выделяются немалые бюджетные средства. Историкам в этом случае остаётся лишь принять заказ и дать обществу как можно больше сведений по утверждённой теме. А поскольку так повелось, что высшим доверием у государства пользуются историки, имеющие учёные степени, то считается, что и сведения от них поступают как научные. То есть – будто бы хорошо выверенные и в достаточной компетенции.
На деле получается по-другому.
Финансирование из госказны портит учёных. В условиях коррупции их усилия часто недобросовестны. Кроме того, свои услуги при проведении соответствующих мероприятий предлагают историки, не имеющие учёных степеней, а то и просто энтузиасты, жаждущие признания. Их усилия также весьма часто недобросовестны. Для такой сферы, как масс-медиа, эти составляющие малоинтересны. А вот директива от власти, открывающая накатанные сюжетные ходы, а значит и лёгкое получение доходов и сверхдоходов, ей, что называется, по душе.
В результате в общем потоке распространяется немало фальшивых подробностей и пустых концепций, излишней или неуместной актуализации.
Кампании, целью которых не может быть иного, кроме углубления знаний общества о прошлом и соизмерения их с настоящим, окрашиваются во всевозможные цвета ложного патриотизма, демагогии, парадности, угодничества перед инициаторами представления.
Официальность тут преобладает, но в её рамках часть мероприятий, а иногда и все они принято преподносить как народные.
Стиль этот плох тем, что позволяет не замечать событий, во всех отношениях достойных, чтобы вспомнить и с пользой порассуждать о них. Не сказано «сверху», что это нужно сделать, значит и рассуждать не о чём.
Как раз таким было отношение к юбилею, знаменовавшему отмену в России крепостного права.
Факту отмены уже более полутора столетий. Исключая редкие примеры, пресса об этом молчала будто утопленная. Также в большинстве молчали историки. Со всеми их учёными степенями и без них. Со всей наукой историей, основательно погрязшей в подобострастии перед правительством. Забывшей о чести иметь свою точку зрения на события и факты независимо ни от чего и ни от кого.
А ведь какая была прекрасная возможность оглянуться и лучше осознать, как скуден наш кругозор, какие из нас получились манкурты, какие житейские и моральные тупики мы себе уготовили. Отчего так жестоки. Зачем постоянно обманываем себя пошлым казённым воодушевлением и верой, что будущее явится нам светлым. Зачем, закрывая глаза на целое, снова и снова искусственно приподнимаем отдельные события и героизируем отдельные персоналии, которые приподнимать и героизировать бывает просто некуда, – многие из них уже и без того прославлены сверх всякой разумной меры. Почему нас так и тянет замагнитить свой дух и свой менталитет милитаризмом, гордостью за свою надуманную удаль, бахвальством по части достижений, часто воспринимаемых с безразличием и скукой всеми, в том числе – что вполне очевидно – даже инициирующими инстанциями.
Да, возможности оглянуться и повнимательнее посмотреть на всё это были упущены. В очередной раз страна и её народ прошли мимо самих себя…
* * *
Как фактор общественной жизни крепостное право было установкой на бесправие подневольных. Таким оно проявило себя во многих странах Европы и Востока. Перенимая «опыт», Российская империя сумела взять из него максимум самого худшего. Бывшие когда-то свободными её крестьяне оказались не только без земли-кормилицы, но и без права жить на ней, не принадлежа кому-нибудь из богатых. Постепенно задалживая господам по отработкам и платежам, попадая к ним в непреодолимую кабалу, они превращались в такую живую массу, с которой угнетатели могли обращаться как угодно высокомерно и жестоко. Продажа крепостных в этом ряду не считалась самым худшим из зол.
Развитие «права» тянулось века. На территориях Древней Руси признаки его зарождения появились более тысячи лет назад, и чем процесс всё дальше подвигался по времени, тем он всё больше напоминал неумолимое затягивание петли на шее у бедствующего населения.
Вот откуда истекали тревожностью и трагизмом наши лирические музыкальные мелодии и устная поэтическая лирика, тоска по воле, интерпретированная то в сказки, то в бунты. Позже фольклорные традиции дали мощный толчок при становлении новой художественной словесности, изобразительных и иных искусств. О потерях же никто не говорил, хотя они были. Наше устное народное творчество не знало таких жанров, как гимн и ода. Ещё задолго до новой эры у хеттов, китайцев и индусов они составляли приличные антологии, где в немалой степени присутствовала высокая чувственность – мать настоящей поэзии. Тексты гимнов и од исполнялись тогда в песенном наряде, в этническом окрасе мелодий.
Словно желая заиметь недостающее, наши поэты вслед за Ломоносовым пробовали показать себя в таком творчестве. Вышла одна пародия. В подавляющем большинстве тогдашних од выплеснулось позорящее авторов прогибание спины перед царским троном. Ещё хуже получилось в нашей, теперешней эпохе, когда стали сочинять гимны. В их текстах нет содержания, оставлена лишь поэтическая форма, и они обречены быть лишь символической, отвлечённой штриховкой агрессивной государственной показухи.
Из жадности правящее сословие постоянно донимало простых людей новыми поборами. На пике этого процесса, при царе Петре III был издан указ о вольности дворянской. После чего эксплуатация народа приобрела поистине безоглядный и до крайности злобный характер. Даже сами дворяне ужаснулись. В пределах этого замешательства погасли просветительские намерения Новикова, вызрел протестный талант Радищева. Хотя в целом дворянскому сословию вольность, конечно, нравилась. С ней, как законом, ему удалось прожить целый век, до февраля 1861 года.
В том историческом отрезке произошло восстание Пугачёва, было спровоцировано военное столкновение с Бонапартом, оказались на слуху сатанинские издевательства над крепостными помещицы Салтыковой, вспыхивали бунты на Сенатской площади и в глубинах центральных губерний, потоплена в крови мятежная Польша, умножилась сеть городов, появилась литература высокой пробы. Не раз век вольности называли золотым, особенно по отношению к периоду царствования Екатерины II.
Пусть эта восторженная оценка, навеянная пестротой событий, не собьёт с толку нынешнего современника!
Не говоря уже о подневольных, глубокой печалью и страданием, а порою и мукой отзывался миражный расцвет империи в сердцах честных людей из дворян. Стыд и тупое бессилие сопровождало их на каждом шагу ввиду их принадлежности к «лучшему» общественному классу. Многие не знали, даже не могли догадываться, что конкретно задевало их, усиливая душевную и чувственную опустошённость и боль.

