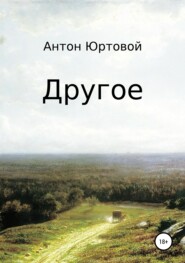 Полная версия
Полная версияДругое. Сборник
Поэт знал твёрдо, что Аня уже всецело покорена им и что она изыщет любую возможность быть с ним в интиме ещё…
Федот Куприянович, как управляющий не только в Лепках, но и во всех остальных имениях Лемовских, был прекрасно осведомлён о колебаниях курса денежных ассигнаций, об их «вольной» стоимости по отношению к серебряному рублю в той части губернии, в которую наряду со здешним входили и многие соседние уезды.
Разницей курса определялся общий уровень хозяйственного развития территории, и чем такое развитие было активнее и успешнее, тем более алчным при истребовании платежей следовало быть всякому, кто становился участником делового оборота.
В нём, в этом явлении, уже пульсировала некая свобода, истреблявшая традиционное для страны и во многом неадекватное понимание дворянами смысла той или иной сделки.
Чаще всего именно здесь пролегала граница, отделявшая ещё робкое в ту пору свободное предпринимательство от действий хотя и одинаковых по значимости, но пока не освящаемых свободою.
Соответственно этому к назревавшим переменам помещики в своём подавляющем большинстве оставались ещё глухи и нелюбопытны.
Лемовский, как отличавшийся более свежими воззрениями на окружавшую его жизнь, мог бы самостоятельно постигать существующую игру. Но даже в нём барское прежнего покроя продолжало преобладать. Поэтому так важно было для него довериться маститому управляющему. Доходная часть от ведения хозяйства, которую удавалось получать благодаря прежде всего стараниям менеджера, его вполне устраивала; ведь она хотя и не была столь уж значительной, но не опускалась ниже порога, за которым бы виделось разорение. Да и во мнениях владельцев имений и душ, ближних и даже весьма отдалённых отсюда результаты, получаемые Лемовским, на протяжении ряда лет признавались лучшими по сравнению с их собственными.
Содействуя этому, Федот Куприянович в каждой, даже мелкой операции, что называется, гнул своё. В отношении займа Алексу он, однако, не мог извлечь сколько-нибудь весомой выгоды к пользе хозяйства. Здесь курс ассигнаций хотя и мог считаться достаточно высоким, но он всё же значительно уступал петербургскому или московскому. И процент на выдаваемую в долг сумму да и она сама при её погашении, как было заведено, должны были исчисляться по курсу непременно местному – как бы в покорность влиянию столиц.
Не помогло тут и предложение управляющего о предоставлении части ссуды поэту разменной монетой, причём даже со скидкой от фактической местной стоимости бумажного, ассигнационного рубля. Это было широко известной уловкой, когда пробовали сбывать припрятанные и уже основательно обесцененные устаревшие медные деньги. Согласиться на это, значило показать в расчётах полнейшую неосведомлённость.
Также неприемлемым оказалось предложение управляющего не учитывать лажа в пользу берущего в долг – за предоставление ему суммы в рублях ассигнациями, а не серебром.
Обойдя эти препятствия, поэт получал ссуду на выгодных для него условиях, и уже само по себе выгодным было его обращение к периферийному кредитору, о чём он знал по опыту своих предыдущих таких займов. Размер долговой суммы и срок её возврата также сполна удовлетворили его: как выходило, Илья Кондратьевич благоволил к нему искренне и с пониманием.
Писарь Корней, отец двоих беглых, сидел в кабинете за отдельным столом сбоку от управляющего; он выглядел подавленным и отстранённым не менее вчерашнего, когда сполна испытал гнев барыни, но всё же своё занятие исполнял сейчас, казалось, исправно.
То и дело он обращался к Федоту Куприяновичу для уточнения учётных записей по оформляемому займу, которые вёл. Можно было подивиться, чего это ему стоило. Ведь наверняка уже ранним утром, сразу по приходе в кабинет он обязан был сообщить начальнику об очередной передряге в своём семействе, и, возможно, были при этом и неутешные слёзные стенания, как накануне, или даже истерика, «понимать» которые хозяин кабинета мог хотя и с явным, неподдельным сочувствием, но, как обременённый долгом собственного услужения властителям – совершенно отстранённо.
Ввиду почти как прямой и потому, как представлялось, сильно угнетавшей Корнея вины за убеги его сыновей, для него было также нелёгкой задачей передать своему начальнику ещё и о потраве занятой под озимью и принадлежащей Федоту Куприяновичу делянки, и уж тем более – о распоряжении барыни, чтобы тот в наказание за потраву особо, сам всыпал виновному плетью, непременно плетью…
Последнее обстоятельство заботило уже и Алекса. К тому, что управляющего используют как подручного при истязаниях крепостных, примыкало и то, о чём сообщал Филимон – о содействии наёмника в утяжелении доли не только крепостных, но и вольноотпущенников.
«Нет, – думал поэт, – такому человеку доверия быть не должно; его помощь сомнительна, и она, скорее, была бы мизерной. С учётом присутствия служивых обращаться к нему опасно, да, пожалуй, и поздно. Аким, верно, уже умер. Также и Андрей – мог ли он столько ждать? А обо мне как посреднике этот если и не ярый, а всего лишь пунктуальный исполнитель чужой воли способен проговориться… Что тогда?.. Допросы, опала… Нет, поступку с моей стороны не быть, хотя, разумеется, этим затрагивается моя честь.
Должно подумать обо всех в тайном сообществе. Допустимо ли, что по неосмотрительности я стал бы причастен к их обнаружению и к возможным другим их несчастьям и бедам?..»
До момента, когда оформление займа было завершено, Алекс всё же не оставлял надежды выйти из круга одолевавших его сомнений. Но чтобы изложить просьбу Андрея, требовалось обойтись без свидетеля.
– Нам бы остаться с вами наедине, – сказал он хозяину положения, слегка поведя взглядом на измождённого писаря. – Важное обстоятельство…
– Это невозможно, сударь; мы – при исполнении, – чётко ответствовал управляющий.
– Но… Мне нужно…
– Примите сожаление. Только в присутствии…
– С чем это связано?
– С теперешним надзором. Вы ведь, наверное, знаете, что у нас произошло и происходит? При всём желании – не могу. Распоряжение от барыни. Их воля…
Поэту не удавалось сосредоточиться ввиду возникшей преграды.
– Благодарствую, – сказал он, медленно вставая. Дальнейшие объяснения он посчитал излишними и бесполезными. – Добрых дел и процветания!
Визит к управляющему на этом можно было считать законченным. Не искать же встречи с ним вне такой вот «официальной» беседы: менеджер мог сослаться на то, что он должен явиться к барыне по её срочному вызову и уже торопится; или – у него неотложный выезд из Лепок в какое-то из других имений Лемовских; то есть – он мог найти какую угодно причину отказа в приватном общении, и в каждом таком случае ему было бы удобно ссылаться на его зависимость от своей барыни, рьяно замещавшей теперь её отсутствовавшего супруга, что Алексу приходилось воспринимать как должное: он сам, владея имениями, хорошо знал об ответственности и норовах управляющих, которых нанимал и с которых был вынужден строжайше спрашивать об исполнении своей, господской воли.
Огорчённый несостоявшейся передачей просьбы Андрея, Алекс, чтобы не усложнять своего возвращения из Лепок, когда надо бы было заезжать за Никитой в ночное время, решился покинуть имение уже в этот день, к его концу, для чего следовало поспешить и с почтовой пересылкой переходящей к нему суммы займа.
На большом просёлке, где могли вести наблюдение жандармы, разбойников опасаться не приходилось, зато, проехав ночною порой путь до Неееевского и дабы не встречаться там с её владычицей, а ещё более того – и с участниками похорон Мэрта, если те ещё должны были там находиться, можно было в это село не наведываться вовсе, поручив забрать слугу кучеру. Сам же поэт склонен был ещё раз пройтись вдоль прямого прогона от знакомого моста у пересечения дорог до тех двух своротов с просёлка в сторону села, где, путая следы, заезжал и выезжал отряд полевой жандармерии во главе с Мэртом.
Туда пусть возница доставит Никиту, а он, оставшись один, если даже выйдет задержка с появлением из усадьбы кибитки со слугой, – несколько подождёт. Это в любом случае лучше общений, которые в сложившихся обстоятельствах могли быть только неприятными для него.
Алекс остался доволен, скроив последующие свои действия при завершении путешествия таким чётким образом. Отъезд был назначен после обеда, о чём он без промедления уведомил Полину Прокофьевну. За обедом она огласила эту новость присутствующим, среди которых были обе сестры Лемовские, игуменья монастыря, а также – все те, кто не только ужинал вместе с поэтом при его прибытии в Лепки, но и отсутствовал на том ужине, будучи зван к нему. Не появившиеся в тот раз служивый от жандармерии и священник оба выглядели внушительно, и в жестах и в общении они как бы подчёркивали свою неоспоримую значимость.
Хотя Алекс радовался присутствию Ани и Ксюши, он не мог избавиться от ощущения некоего совместного с ними заговора против него. Это замечалось по какой-то скованности обедавших, произносимым ими редким, негромким и осторожным фразам. Скованность была присуща даже хозяйке стола.
Наблюдая за управляющим, поэт, как ему казалось, был твёрдо уверен в том, что тот, во исполнение приказания госпожи успел уже лично, от своего плеча отсыпать немалое количество ударов плетью незадачливому холопу – в связи с потравою озими скотом, а ещё раньше с таким же поручением должен был управиться и местный староста Анисим. Бедняга крепостной!
Менеджер мог поторопиться и с доносом служивому – о всех подробностях поведения его, заезжего поэта, при оформлении денежного займа.
Было также что заметить и у остальных, кто находился за обеденным столом.
Щёки у Ани пылали необычным жаром; за всё время приёма пищи она лишь изредка взглядывала поверх своего прибора и произнесла буквально несколько слов, при этом старалась привлечь к себе внимание из сидящих напротив одной игуменьи.
Алексу это показалось весьма странным. Ночью, когда она была у него, она так и не назвала ему своей тайны. Отделалась тою же, как и в их первое интимное свидание лукавой и жеманной отговоркой, что, мол, об этом она обязательно ему скажет, но – позже. Что это за тайна? И какая имелась надобность не выдавать её, когда их отношения стали так близки? Как она сможет известить его теперь, при самом его отъезде?
Прощание состоялось тут же, в зале столовой. Оно было простым и сдержанным. Напутствия и пожелания отъезжающему звучали отстранённо, будто им мешал дневной свет. Никто не выдавал каких-либо особенных своих чувств. Девушкам это, видимо, полагалось из-за присутствия матери. Сама Полина Прокофьевна выглядела измождённой, угрюмой и какой-то насупленной, что придавало ей вид пораненной птицы, отжившей своё, но не способной осмыслить этого. Заезжая игуменья о чём-то будто бы отвлечённом тихо, неслышно для других разговаривала то с барынею, то со священником. Она казалась очень уставшею и будто бы желала единственного – немедленно лечь в постель, чтобы забыться и уснуть.
Приказчик известил Алекса, что данные ему поручения все до одного исполнены и его карета подана, стоит у ворот. Ему оставалось только наведаться в комнаты, где он почивал: не забыть бы чего из личных вещей. На столике при входе он увидел книгу Антонова. Был ли это экземпляр, показанный ему Аней? Заглянув под обложку, он обнаружил там записку.
Милый! – сообщалось в ней. – В знак расставания прими эту книгу в дар от меня. Я так благодарна тебе. Я была безмерно счастлива с тобой. Такой и останусь. Никогда тебя не забуду. Мы увидимся при выезде, и большего нам не суждено. Так нужно. Прости и прощай!
Аня
«Вот ещё не менее странное, – размышлял поэт о записке, выходя из дома на парадное крыльцо, где его ждал приказчик. – Кажется, Аня говорит о чём-то понятном лишь ей. Не в том ли – тайна? И почему её не видно? И – Ксюши. Повеление госпожи?..»
Сквозь оконце фуры, в которую он уселся, Алекс увидел за воротами карету; она как раз отъезжала – в ту сторону, куда предстояло ехать и ему. «Кто-то из соседских помещиков или их порученцев», – решил он, чувствуя, как его одолевает досада: Ани он так и не увидел! Возница вздёрнул поводья; лошади поскакали.
– Не приметил ли, кто – впереди? – обратился он к нему, как единственному, кто теперь хоть что-то мог бы знать и сообщить ему.
– Не велено, барин, – пророкотал тот глухим и спитым голосом: давало знать пребывание кучера в среде дворни, когда его единственной обязанностью было содержать лошадей, используемых в упряжке, нанятой Алексом, а всё остальное время он мог истрачивать на безделье, что, конечно, значило и – на увеселение.
Казалось, тут всё сходилось в чём-то одном и оно не предвещало поэту ничего, кроме его болезненного расстройства.
Уже поселение осталось далеко позади, как вдруг кучер резко остановил упряжку. Подняв руку, навстречу шла Аня, одетая по-дорожному. Поравнявшись с фурою, она притронулась к ручке дверцы и, дёрнув за неё, быстро взобралась на сиденье.
– Ты!? – изумился Алекс. – Что это значит? – спрашивал он её, выходя из уже одолевавшего его мрачного оцепенения и помогая ей разместиться.
– Да, милый, это я! Проедем немного вместе. Прикажи трогать…
– Да, да, само собой. Трогай, братец! – прокричал он кучеру, приоткрыв дверцу, чтобы тому было слышнее. – Я так рад, так рад.
– Вот моя тайна, – сказала Аня, в то время как он жадно обнял её в талии и она прижалась к нему. – Я уезжаю в монастырь. Домой не вернусь…
– Сумасшедшая! Ты о чём?
– Я приняла решение. При вечной разлуке с тобой хочу быть только твоей и ничьей больше… Понимаешь?.. Христова невеста… Мне легко далось это решение… Ах! Как я люблю тебя! В миру бы я чувствовала себя потерянной и пропащей. Ну, вроде моей матушки… Нет, не смотри на меня так осуждающе, не будь излишне строг. Ты не волен удержать меня, и я не отступлю… – говорила и говорила она как бы в избытке восторга от своей решимости.
Слёзы капали из её глаз, но она словно бы радовалась им, и, казалось, ей вовсе не даётся выход из того, так его в ней восхищавшего состояния ненасыщаемой любовной привязанности к нему, замешанной на озорстве.
Аня теперь упрашивала его подвезти её к монастырю. Это недалеко: от просёлка не более десятка вёрст. Ей так сладко будет вспоминать об этой с ним поездке! Настоятельница, забиравшая её, пусть едет без неё. С нею в кибитке её, Ани, служанка. Им сказано, что она последует за ними. С новенькими, которых принимают в монастыри, ещё и не такое бывает…
Отказать ей в её прихоти Алекс не мог. Скоро подъехали к съезду с просёлка. «Терпение! – приказал он себе. – Но – какова на выдумку! Я не должен её обидеть хотя бы чем…»
Дорога в обитель действительно не была дальней. Лошади, хорошо отдохнувшие за несколько дней, бежали прытко и свежо, равнодушные к тому, что оставалось у них под ногами. Стук колёс заставлял обратить внимание на попадавшиеся частые выбоины. Колея в целом была неровной, узкой, иссохшей и неразъезженной. Почти сплошь по сторонам тянулся боровой лес. В одном месте путь пролегал по мостку из брёвен с настеленными на них распилами. Внизу текла маленькая речушка. Мосток был поднят вровень с подходившею к нему с обеих сторон довольно высокой насыпью, что могло говорить о случавшихся тут опасных разливах.
Быстро наступали вечерние сумерки, так что когда подъехали к монастырю, было уже почти темно.
Приходилось считаться с присутствием у ворот игуменьи. Она, видимо, следила за тем, как бы не потерять из виду двигавшуюся сзади упряжку с Алексом и Аней и теперь, выйдя из кибитки, ждала новенькую. Уже торопясь, Аня страстно прошептала поэту: «Милый! Прощай! Прощай!» и в последний раз прижалась губами к его губам. И губы и щёки обоих увлажнились от её слёз, которых она унять не могла.
Ему было вполне уместно выйти из кибитки первому, чтобы зайти с другого бока и помочь нечаянной спутнице сойти со ступеньки, дав ей возможность за это время хотя бы частью привести себя в порядок.
Удерживая Аню за руку, он подвёл её к игуменье с лёгким поклоном и извинением.
Последовала небольшая перемолвка с нею, когда она, словно войдя в его положение и перекрестив его, удостоила его кроткой благодарности за оказанную услугу и пожелала ему счастливого следования предстоящим дальним путём. Приехавшая с нею повозка, из которой был слышен голос Аниной служанки, болтавшей с кучером, медленно въехала в ворота обители, и туда же, наскоро распрощавшись с Алексом, прошли настоятельница с Аней. Сумерки быстро поглотили их фигуры.
Служанку, скорее всего, отправят в Лепки позже, по окончании процедуры приёма Ани на новом месте, и по возвращении к барыне она, конечно, расскажет обо всём, что знала и чему была свидетельницей, – не только ей, но и – всем дворовым…
«Ну что же! – размышлял поэт об Ане, когда его карета отъезжала от монастыря. – Очень мило и вместе с тем очень смело и дерзко с её стороны… Только всё же – это тюрьма; как жестоко, что девушке приходится поступать в неё и очень надолго, может быть, на всю жизнь. Как это горестно!.. Времени, чтобы довезти её, и вправду у меня ушло совсем немного…»
В густой темноте упряжка двигалась уже медленнее. Лошади перешли на шаг и эффектно всхрапывали, когда их копыта попадали в огрубелую, жёсткую колею. Стук колёс был неровным, и кибитку часто кренило к обочинам. Поддужный колокольчик дёргался и взванивал на разные, разорванные лады, словно бы его одолевала обидная для него дремота и он лишь на короткие мгновения превозмогал её, возвращаясь к своей обычной мелодичности. Спокойно упряжка протащилась только по короткому настилу мостка. Предстояло смириться перед неудобствами тряского передвижения, благо этой дороги уже оставалось, пожалуй, меньше половины.
Тут, однако, случилось то, чего ожидать было никак нельзя. Кибитка стала. Впереди прозвучал посвист, и почти сразу к лошадям из темноты придвинулись два светящихся фонаря. Раньше, они, видимо, были скрыты за полами одежд. Разбойники, а это были они, подступились к бокам фуры, и теперь фонари находились по обеим её сторонам. Алекс не мог бы сказать, что он испуган, настолько их появление здесь было, на его взгляд, неуместным и нелогичным.
Кто-то потянул за скобу дверцы, у которой сидел поэт.
– Пожалте, выйтить… – пролепетал невидимый из-за темноты человек, держа фонарь и направляя его свет в лицо одинокому пассажиру.
Возражать было немыслимо. Алекс сошёл вниз.
– Что имеете, вашество? Мы посмотрим… – в голосе говорившего слышалась издевательская усмешка.
При свете фонаря Алекс теперь мог различить его фигуру и отдельные черты. Это был рослый мужик, с длинною бородой, в шапке и в маске.
Держась пространства сплошной темноты, явно, чтобы не быть узнанным, поблизости от него стоял другой, в сапогах и тоже в маске. Фигурой он показался Алексу схожим с Андреем, но теперь он не выдавал себя ни словом, ни каким-либо жестом.
– Деньги! – потребовал подступивший.
– Вот всё, чем располагаю, – Алекс вынул из кошелька и подал грабителю ассигнации и десятка полтора разменных монет.
Это была небольшая сумма наличности из двух частей: одна – принятая от управляющего, как доля от займа, необходимая для траты лишь в дороге, другая – остававшаяся нерастраченной ранее, та, что не была изъята разбойниками при первой встрече с ними, когда этому поспособствовал их предводитель.
Забравший деньги потянулся также за кошельком; отдать пришлось и его. Ещё одним жестом его рука понуждала расстегнуть сюртук. За его полой, в карманчике панталон держали часы с выпускавшейся оттуда блестящей цепочкой. Поэт повиновался и отдал требуемое. После этого грабитель испустил лёгкий свистящий звук, и к нему подошёл подельник с другим фонарём, тоже в маске; сам же он отступил в сторону стоявшего в темноте человека в сапогах и, отвернув от него фонарь, направил его свет на забранные ценности.
Скорее всего, он уведомлял того, что лично себе не взял ничего, а ещё, может, хотел удостовериться, не поддельные ли деньги попали к нему в руки.
Такая щепетильность могла быть предусмотренной, и она, кажется, устроила второго, которому давался отчёт, вслед за чем оба они прошли к другой дверце.
Отворив её и осветив карету внутри, бородатый, проник туда своим гибким туловищем и обшарил руками сиденья, пол под ними и в углах. Добыча и тут не ускользнула от него. Алекс успел разглядеть, как он вытаскивал на свет из саквояжа книгу Антонова и пистолеты; оружие было заряжено при посредстве приказчика за какой-то час до отъезда из Лепок.
Небрежно встряхнув саквояж и вытряхнув из него на пол остававшееся в нём, бородатый побросал в него выбранное вначале и умелым приёмом заправил на нём ременную застёжку. Лежавшая позади сиденья железная палка особого интереса грабителя не вызвала; он только достал её с пола и тут же бросил, но уже не на прежнее место, а прямо на проходе между сиденьями, ближе к открытой дверце напротив, откуда поэту давалась возможность свидетельствовать реквизицию.
С саквояжем в руке он опять сошёлся с человеком в сапогах, стоявшим чуть в стороне, опять же со знанием дела отвернув от него фонарь и направив его свет на добытое. О чём-то оба поговорили шёпотом. Речь могла идти об изъятии ещё и упряжки, части одежды жертвы, а то и покушении на её жизнь. Исключать такое было нельзя. Что-то, однако, уберегло путешественника и его средство передвижения.
Изымавший ценности опять приблизился к оставленной им открытой дверце фуры и, снова осветив и обшарив её изнутри, прихлопнул её. Подельник с другим фонарём, находившийся рядом с поэтом, очевидно, в роли его сторожа, тут же отступил от него.
Трое мгновенно растворились в плотной вечерней темени.
Кроме обращённых к нему первых слов, никто ни с ним, ни с возничим не заговорил. Какое-то время уже сбоку от дороги, у леса были слышны негромкие переговоры удалявшихся, перемежаемые кашлем одного из них; кашель был натужным до болезненности – видимо, оттого, что долго и с большим усилием сдерживался. По нему Алекс узнал: Андрей!
Усевшись, на сиденье, он лихорадочно перебирал в памяти моменты этой угрюмой встречи. «Всё будто из одного романа, – медленно резюмировал он, имея в виду случившееся. – Ограбление чуть ли не на виду у жандармов!»
Хотя он остался без денег и ценных для него вещей, ему приходилось довольствоваться: потери могли быть значительно большими. Ведь на то и разбойники. По-настоящему он мог жалеть лишь о книге. Она уже во второй раз как приходила, так и уходила от него…
По заведённому обычаю определённую часть денежной наличности в условиях проездок, особенно дальних, дворяне передавали сопровождавшим их слугам. Холопы обязаны были не только держать при себе такие суммы, но и тратить их на выплаты по дорожным задолженностям своих господ – за услуги или приобретаемые вещи. Алекс в этом полностью доверял Никите, который умел так надёжно сохранять взятое от него и так скрупулезно расходовать, что не случалось ни единого раза, когда бы его нужно было упрекать в переплатах, потерях или в присвоении. В данной поездке не следовало пренебрегать старательностью слуги. У того в надёжном месте, при нём непосредственно, а не где-либо сохранялся тот резерв, без которого рассчитывать на благополучный исход путешествия не приходилось.
Имея его в виду, Алексу можно было теперь надеяться, что совсем без денег он окажется лишь до времени, пока не доберётся до Неееевского.
Понемногу успокаиваясь, он думал о том странном содержании произошедшего, которое касалось участия в ограблении Андрея.
Он, конечно, узнал о нём, поэте – по некой, доступной ему информации или даже по изъятой книге со вложенной в неё запиской Ани, и, как дворянин, возможно, и на этот раз имел желание действовать в пределах правил сословной чести, но обстоятельства могли этому препятствовать: они диктовались необходимостью отъёма ценностей, нужных сообществу беглых и отторгнутых.
Ночью, забывая о монотонной тряске, он спал почти непрерываемым тяжёлым и тягучим сном. Так же спалось и при её отсутствии, когда возница останавливал упряжку прямо на дороге, чтобы дать немного передохнуть лошадям, а в одном месте, то был постоялый двор, при заезде туда лошадей ненадолго выпряг, кормил и поил.
Бодрствовать поэту не хотелось и когда уже занялся день. Так было много того, что оставалось позади, и так оно было сложно переплетено одно в другом, что он полагал за лучшее, чтобы оно по крайней мере как-то улеглось в нём, – найдётся впереди ещё немало времени и поводов к нему вернуться и поразмышлять о нём. Поддавшись такому незатейливому расчёту, Алекс начинал чувствовать, как тяжесть, одолевавшая его, хотя и медленно, сползала с него.
Карета наконец прокатилась по мосту к ближайшему отсюда перекрёстку, у которого он расстался с Марусей. Он велел кучеру остановиться и в соответствии с намеченным накануне планом наставил его ехать к усадьбе за Никитой одному, а на просёлок выехать с ним со стороны кладбища. Буде помещица или кто-либо из тамошних спросит его, почему не заезжает он, барин, отвечать, что он, как уставший при езде, пройдётся пешком до выезда на просёлок, чтобы освежиться, таково, мол, его распоряжение.

