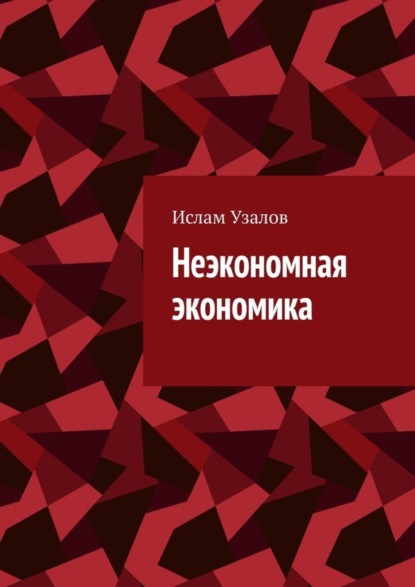
Полная версия:
Неэкономная экономика
Это привело к тому, что резко обмелел рынок кредитования.
Перепуганные кредиторы стали требовать от заёмщиков досрочного погашения обязательств – наступил, так называемый, margin call.
В то же время сами производители, планировавшие капитальные вложения или пополнение оборотных средств за счёт заимствований, вдруг обнаружили, что кредитоваться-то не у кого, либо процентная ставка возросла настолько, что кредиты стали недоступными. В
сё это грозило эффектом домино, который привёл бы к коллапсу экономики.
Тут, хоть и с некоторым опозданием, но вступило в игру правительство.
Начавшийся было возникать пожар кризиса ликвидности заливается триллионами бюджетных рублей.
Фактически же никакого недостатка денег у банков не было и без государственных вливаний.
Я как-то, ещё в начале года, комментируя жалобы дагестанских производственников на отсутствие средств для развития, писал, что российские банки пухнут от денег.
Просто, к ним не идут с предложениями по проектам, эффективность которых вызывали бы у банкиров доверие.
Готов подписаться под этими словами и сейчас, даже в условиях, когда российские банки во многом потеряли возможность перекредитования на Западе.
Сейчас, по большому счёту, мы имеем, прежде всего, порождённый кризисом недостаток не денег, а доверия кредиторов к заемщикам и спровоцированный этим запредельный рост кредитных ставок.
Горькое лекарство
I
То, что страна, мир, а вместе с ними и Дагестан переживают экономический кризис, давно известно даже младенцам, как и то, что виновниками всего, конечно же, являются американцы – наше, ставшее уже штатным, мировое зло.
Надо думать, если бы не они со своей ипотекой, то мы продолжали бы пребывать в благоденствии и по настоящее время.
Правда это несколько не стыкуется с рассуждениями, против которых тоже вроде никто и не возражает, что экономические кризисы в условиях рыночной экономики неизбежны.
За каждым подъёмом непременно должен следовать спад, а за ним новый подъём к ещё более сияющим вершинам.
При этом упоминаются и короткие в несколько лет волны от Маркса (того самого – Карла), и длинные, растягивающиеся на десятилетия волны Кондратьева, и периодическая смена технологических укладов, влияние которых можно демонстрировать любопытствующим в ретроспективе, но никто не рискнёт прогнозировать, в отличие от марксовых или кондратьевских циклов, их временные рамки в перспективе.
Однако, в любом случае получается, что американцы тогда ни причём.
Свершилось неизбежное, а они, как всегда, и здесь оказались «впереди планеты всей», хотя при этом сыграли только роль камня, вызвавшего, давно и неуклонно зревшую лавину.
Камня довольно увесистого, я сказал бы даже целой скалы, но, тем не менее, лавина зрела.
Имеется ещё и точка зрения, согласно которой получается, что дело не в цикличности развития, а просто всему виной либерализация экономики, которую государства отдали на откуп стихии рынка.
Теперь вот придётся возвращаться к тому, от чего не следовало отходить – жёсткой руке государственного регулирования и даже национализации, являющимися, надо понимать, лекарством от кризисов в будущем – опять реверанс в адрес Маркса, только теперь уже не в части констатации цикличности кризисов, а способа избавления от них вообще.
Однако, и здесь невозможно не видеть некоторую нестыковку.
Если государства, как институты, такие умные и, в отличие от бизнеса, всё знали бы наперёд и делали бы правильно, то почему они с самого начала, видя, наметившееся движение в опасном направлении, не взяли ситуацию под контроль, не перехватили инициативу у неправильно ведущего себя рынка, направив поток в должное русло, не дожидаясь пока всё начнёт рушиться, а затем принялись суетливо заниматься спасательными работами?
Разве инструктор учебного автомобиля, видя, как курсант собрался сбить приближающийся фонарный столб, не перехватывая управление, ждёт пока произойдёт авария, в том числе и с довольно опасными для его собственной жизни последствиями, а затем начинает заниматься ремонтом?
Но вернёмся к нашей лавине.
От чего, всё-таки, она зрела и дозрела и вообще в чём предпосылки её зарождения.
Не возникают же циклы и волны сами по себе чуть ли не по воле божьей.
Почему в своё время мы гордились тем, что кризисы эти есть, как считал классик, родимое пятно капитализма, от которого социалистической экономике гарантирован иммунитет?
Мировая экономика представляет собой сложнейшую динамично развивающуюся систему, состояние которой определяется бессчётным количеством факторов, формируемых миллионами субъектов экономической деятельности, начиная от государств, транснациональных корпораций и кончая торговкой семечками или кустарём- одиночкой.
Хотя в основе экономики, как науки, лежат очень простые и понятные вещи, субъективизм, присущий всем участникам экономической деятельности, ведёт к тому, что они ведут себя в той либо иной степени вопреки требованиям объективных экономических законов, что и является теми самыми факторами, влияющими на систему, деформируя её.
Это и ошибки в оценке ситуации, и склонность к авантюрам или наоборот излишнему консерватизму, а так же иными проявлениями, имеющим отношение, не столько к экономике, сколько к профессионализму и психологии лиц, принимающих решения.
Кстати, за работы по изучению нерационального с точки зрения экономики поведения потребителей, дезориентирующих производителей, американский экономист Ричард Талер получил в своё время Нобелевскую премию.
Но это я так – в качестве лирического отступления.
Особую роль играют государственные институты, влияние которых на экономику зачастую определяется как лоббизмом, так и причинами политического и социального характера, далеко не всегда находящимися в гармонии с логикой экономического развития.
Перечисленные обстоятельства, которые практически невозможно устранить окончательно, в той либо иной степенью интенсивности и мощи вносят свой вклад в общее дело деформирования экономики.
При этом, возникающие диспропорции имеют свойство накапливаться, а не исчезать.
В конечном итоге, система не выдерживает.
Подобные аномалии возникают при любом способе производства и, тем не менее, между социалистической и рыночной экономикой существует принципиальная разница.
Сравним, для наглядности, экономику с известной, думаю, всем Пизанской башней, которая из-за проблем с грунтом, на котором покоится её фундамент, постепенно наклонялась и, в конечном счёте, рухнула бы.
Однако, под неё подвели бетонную подушку, остановив тем самым процесс, и теперь вроде башне ничего не угрожает. Наклонное положение, естественно, не изменилось, но собственные конструкция и прочность позволяют ей противостоять вызванных им деструктивным внутренним напряжениям.
Если обратиться к образу этой башни, то социалистическая экономика возводилась на зыбком фундаменте государственной собственности и с первого своего дня уже начала крениться.
Практически она всегда находилась в никогда не прерывавшемся кризисе, самым очевидным проявлением которого был постоянный дефицит жизненно необходимого.
От разрушения её удерживали лишь скрепы диктата, насилия и социальной демагогии.
Сначала экспроприация экспроприаторов, продотряды, потом Гулаг с миллионами бесплатных рабочих рук, великие стройки социализма, построенные на костях зеков, энтузиазм населения, воодушевляемого обещаниями будущего коммунистического рая, вывоз сырья в обмен на зерно, масло, промышленные товары… Однако, всё это невозможно эксплуатировать бесконечно и тогда наступает конец.
Крен «башни» достигает такой величины, после которой скрепы не выдерживают и она просто напросто разрушается.
Это в нашей стране и произошло.
Что же касается рыночной экономики, то и в ней присутствует целый набор аномалий, порождаемых хозяйствующими субъектами, правда, аномалий совершенно иного характера.
Они тоже накапливаются, увеличивая наклон «башни», но, тоталитарные скрепы, присущие социалистическому способу хозяйствования у неё отсутствуют.
Вместе с тем, в системе действуют объективные законы, стремящиеся вернуть её в нормальное положение, и чем больше крен, тем их воздействие сильнее.
В конечном итоге, это приводит к тому, что «башня» в какой-то момент, подобно ваньке-встаньке возвращается в своё нормальное вертикальное состояние.
Однако, это приводит к дискомфорту для её субъектов, уже привыкших функционировать в противоестественном наклонном положении.
Не смотря на то, что в мире и принято говорить о кризисе именно экономики, этим фактически ставится всё с ног на голову.
Вроде как, мы-то молодцы, только вот экономика того…, а иначе давно бы и всем на зависть…
По сути же дела в последнее время, как и во всех предыдущих экономических катаклизмах, наблюдается кризис не экономики, а её отдельных субъектов, которые из-за неправильного поведения в течение достаточно длительного срока вдруг почувствовали себя плохо от того, что экономика отказалась терпеть и далее такое их хозяйствование.
То есть, в кризисе оказались субъекты, ненормальное функционирование которых экономика отторгает, а вот сама экономика сейчас, как раз, находится в процессе активного выздоравливания, ликвидируя дисбалансы, отказываясь от совершенно ненужных и даже вредных излишеств.
Она никогда и ни под кого не подстраивается, и тех, кто надеется на обратное, рано или поздно безжалостно вычеркнет из реестра своих субъектов.
Перефразируя известное высказывание Черчилля о демократии, можно сказать, что рыночная экономика является не особенно хорошим способом хозяйствования, но остальные ещё хуже.
Выздоровление экономики было бы ещё быстрее, если государство не мешало своими попытками сохранить то, что ею отвергается.
Все эти поддержки американского или российского автопрома или иных производителей есть те самые припарки, которые чаще всего лечат не болезнь, а температуру.
Радикальная хирургия, потребность в которой очевидна, подменяется щадящей терапией. На худой конец, как в известном анекдоте про попа, жалевшем собаку, вместо того, чтобы отсечь «хвост» сразу, начинают рубить его по частям.
К сожалению, такие процедуры неизбежны по двум причинам.
Во первых, экономика экономикой, а у государства есть социальные обязательства и, как я уже заметил выше, далеко не всегда они совпадают с объективными интересами самой экономики, которыми в какой-то мере приходится жертвовать.
Здесь ему приходится решать очень непростую задачу – сохранение тех «курочек», что несут золотые яйца, и одновременное недопущение снижения качества жизни населения до взрывоопасного уровня.
Решение, как всегда, бывает половинчатое, что присуще любому компромиссу.
Во вторых, власть просто-напросто должна демонстрировать народу свою тревогу и заботу. Иначе он не поймёт.
Вот и приходится идти на шаги, носящие нередко чисто популистский характер и рассчитанные на сиюминутный эффект, хотя в перспективе от них не следует ждать ничего хорошего.
Ну, скажем, на фоне рецессии и инфляции поднимаются пенсии или заработная плата бюджетникам темпами, превышающими темпы самой инфляции.
И кто кинет камень в благодетеля?
Зато месяц другой спустя начинаются проклятия обывателя в адрес производителей и «торгашей», у которых цены, оказываются, начали расти ещё более ускоренными в сравнении с прежними темпами.
То есть, спираль инфляции ещё более раскрутилась.
Что же касается настойчивых обещаний государства не уменьшать и даже увеличивать свои социальные обязательства, то они вызывают серьёзные сомнения, поскольку резервы, необходимые для этого, могут быть исчерпаны, как обещает Кудрин, уже в следующем году, а чуда с возвратом именно к тому времени прежних цен на энергоносители может и не произойти.
Эффект же от реструктуризаций, инноваций и прочих правильных вещей, позволяющий компенсировать падение цен на энергоносители, даже если всё делать идеально, может появиться в перспективе более отдаленной, чем год или два.
К сожалению, в экономике не существует сладких лекарств, а идти на непопулярные меры всегда сложнее, чем дать народу подслащённую пустышку, хотя очевидно, что лечение запущенной болезни впоследствии обойдётся куда дороже.
II
В предыдущей публикации я попытался показать, что кризисы являются неотъемлемым свойством любой экономики, а не только рыночной.
Просто, рыночной присуща их определённая цикличность, а социалистическая пребывает в никогда не прекращающемся кризисе с первого же дня своего рождения.
После этого меня в частном разговоре, прибегнув к традиционным, как всегда, аргументам – индустриализация, полёты в космос, вражеское окружение, не дававшее строить счастливое будущее и, конечно же, духовность, обвинили, что навожу напраслину на светлый облик социализма.
Если бы это было мнение редких оригиналов, то на нём можно было бы и не останавливаться, но, к сожалению, такой позиции всё ещё продолжает придерживаться достаточно заметная часть российского и особенно дагестанского общества.
Вообще-то я полагаю, что государство существует не для индустриализации или полётов в космос.
Оно содержится гражданами на свои налоги совсем для других целей.
Его предназначение – обеспечить им возможность выстраивания собственным трудом достойной жизни, а не занятия ракетостроением на фоне вечных очередей и коммуналок.
Космос или индустриализация могут быть средством достижения этого, но никак не целью.
В части же вражеского окружения, всем известно, что мешает плохому танцору.
Мы тоже не давали «врагам» строить что-то счастливое, но они же строили и получше нашего.
Значит, наша теория и практика строительства оказалась хуже, чем у них и нечего за неё цепляться.
Экономика это инструмент удовлетворения жизненных потребностей человека.
Если один ковыряется в носу, а другой рвёт жилы, прилавки же пусты и условия жизни для одного и другого одинаково ни к чёрту, значит, экономика со своей задачей не справляется, значит, она в кризисе.
А ещё хуже, если некоторые, ковыряющиеся в носу, имеют доступ к государственной кормушке, а рвущие жилы, лишь к пустым прилавкам.
Семь десятилетий – срок вполне достаточный, чтобы социалистическая экономика доказала своё преимущество перед рыночной.
К сожалению, не доказала, а лишь сделала народы СССР, а заодно и пристёгнутых к нему впоследствии сателлитов, жертвой гигантского эксперимента, в то время, как Западная Европа, Северная Америка, Австралия с Новой Зеландией, да и кое-кто в Азии очень даже уютно обустраивались.
Последствия такого эксперимента мы в своих попытках перейти на рельсы нормального цивилизованного развития никак не можем устранить и по настоящее время.
Что же касается духовности, то, как сказал поэт Александр Межиров, ею обычно затыкают щели в неотапливаемых квартирах.
В той же публикации я заметил, что при экономическом кризисе государству приходится решать две взаимоисключающие задачи – не мешать экономике заниматься самолечением, избавляясь от всего, что деформирует её и обеспечивать при этом некий приемлемый уровень социальной защиты населения.
Все эти сдувания «пузырей», разрушение «пирамид», частичное или полное закрытие недостаточно эффективных предприятий реального сектора, означает, что вне поля экономической деятельности оказываются не просто офисы и производственные корпуса, но люди, работающие в них, а значит, их благосостояние.
Не секрет, что из числа крупнейших экономик мира (G20), российская сейчас в числе, испытывающих наибольший спад и причина этого на поверхности – чрезвычайная зависимость от экспорта сырья – прежде всего, энергоносителей, цены на которые упали в 3—4 раза, а так же откровенная неконкурентоспособность обрабатывающей промышленности и сферы услуг.
В этой ситуации не может не возникать вопрос о том, насколько правильно ведут себя федеральная и региональные власти?
Вообще-то, с чисто экономической точки зрения, правильнее всего не мешать, извините за тавтологию, экономике выздоравливать, а не пытаться финансовыми вливаниями продлить агонию некоторых её обречённых субъектов.
Я полагаю, что Чарльз Дарвин в своё время открыл закон, имеющий отношение не только к растительному и животному миру.
Экономическое развитие, без которого, как известно, нельзя обеспечить и развитие социальное, возможно только при естественном отборе в условиях борьбы рыночных структур за выживание, при которой отмирает всё неэффективное, слабое.
Как волк – санитар леса, так и конкуренция есть санитар экономики.
Снижение накала «внутривидовой» и «межвидовой» борьбы, не соблюдение принципов честной конкуренции всегда приводит к регрессу и загниванию.
Тем не менее, раз уж кризис имеет место быть, то государство вынуждено действовать не всегда столь решительно и безжалостно, как того требует экономика, которая, всё таки, существует ради людей, а не наоборот.
Сложность в одном – правильно определиться со степенью такой решительности.
Первым очевидным для многих россиян признаком надвигающегося кризиса явилось резкое падение ликвидности в банковской сфере.
Тотчас, напуганные слухами и наученные предыдущим горьким опытом, граждане ринулись в банки, изымать свои вклады.
В такой ситуации правительство сработало, как мне представляется, в меру оперативно и эффективно.
Это и решительные заявления президента и главы правительства, адресованные, прежде всего, населению, что их вкладам ничего не угрожает, и кредитование государством, крупнейших банков, и пересмотр некоторых нормативов, регулирующих банковскую деятельность…
Не обошлось и без шероховатостей, в том числе, и достаточно серьёзных, но, в целом вектор выдержали правильный.
Паника была погашена, изъятые из банков вклады начали возвращаться, а к концу декабря прошлого года их величина даже стала превышать ту, что была ещё до изъятия.
Положительная динамика сохраняется и по настоящее время.
Вообще-то для меня эта доверчивость, неоднократно обманутого ранее и терявшего практически всё, российского народа удивительна.
Думаю, здесь свою психологическую роль сыграли и факт наличия у государства крупных валютных резервов, и высокий рейтинг Медведева с Путиным.
Он может кому нравиться, а кому и нет, но будь у населения степень доверия к ним ниже, я не говорю уже про 2% Ельцина, клявшегося с экрана телевизора – если что, то ляжет на рельсы, всё могло сложиться иначе.
В конечном же итоге, вроде как, получилось совсем не по Дарвину – сильные спасутся сами, а слабым туда и дорога. Однако, в этом конкретном случае без вмешательства государства величина социальных издержек могла оказаться совершенно неприемлемой.
Сейчас в среде некоторых, политиков и экономистов в ходу обвинение, что правительство сделало многомиллиардные вливания жирным банковским котам, в то время как следовало помогать реальному сектору, работникам, пенсионерам…
Деньги якобы были использованы только для спекулятивных операций на валютной бирже и, вообще, осели на личных счетах избранных за рубежом.
Все это либо вполне сознательный популизм, либо неосознанная демонстрация некомпетентности.
Во первых, государство даже при тех, прямо скажем, критических, обстоятельствах занималось вовсе не благотворительной раздачей денег, а кредитованием банков под проценты, причём, на достаточно короткие сроки для того, чтобы дать передышку крупнейшим из них и, прежде всего, с государственным участием, неожиданно оказавшихся в осаде перепуганных не только российских, но и западных кредиторов (у них-то кризис был уже в разгаре), требовавших досрочного погашения обязательств – произошёл, так называемый, margin call.
От краха банка волны в экономике, тем более, находящейся в кризисе, поднимаются значительно круче и расходятся дальше, чем в случае с производственной структурой.
Кредиты банками действительно конвертировались в иностранную валюту, но иного и не могло быть, ибо долги на запад полагалось возвращать вовсе не в рублях, которые кредиторам были совершенно неинтересны.
Ну, и потом, займы, спустя оговоренное условиями кредитования время, банками, сумевшими восстановить ликвидность, были государству возвращены.
Так что и его кошелёк не пострадал, и намечавшаяся было волна банковского кризиса спала, хотя напряжённость сохраняется и по настоящее время.
Существует и такая точка зрения, что не помоги государство, так ничего страшного и не произошло бы.
Ну, объявили бы дефолт (банки, а не государство), возможно, некоторые из них перешли бы под контроль самих кредиторов, в том числе и зарубежных.
И что? Разве они после этого не остались бы в России и не продолжали бы работу?
Всё это, конечно же, верно, но только с одной стороны.
Банки это столь тонкая материя, завязанная на множестве производителей, что потрясения их основ, способные привести даже к незначительному сбою в движении финансовых потоков, могли иметь серьёзные последствия для начавшей уже лёгкое скольжение по наклонной плоскости экономики страны, сорвав её в штопор.
Риски были слишком велики и, думаю, что перестраховка в этом деле была не лишней.
– Допускалось ли при этих финансовых вливаниях какие-то нарушения или даже злоупотребления?
– Не исключаю.
Но массовый характер они, убеждён, не носили. В противном случае мы наблюдали бы действительно штопор.
А вот, что касается предприятий, так называемого, реального сектора, кредитовавшихся зарубежными банками напрямую, мимо российской банковской системы, то здесь продемонстрированная правительством и в отношении их решимость посодействовать своими кредитами с возвратом долгов, вряд ли можно признать удачной.
Особенно, когда стало выясняться, что в продолжавших открываться реалиях резервы не столь бездонны, как казалось ранее, и денег может катастрофически не хватить для куда более важных вещей.
Это хорошо, что попозже, вероятно, поняв, что погорячилось, правительство сдало назад, признав, что ничего страшного не произойдёт и без его помощи. То есть, пусть выкручиваются с кредиторами сами.
Государство при заключении производственными предприятиями кредитных договоров никакого участия не принимало и на себя никаких обязательств не брало.
Это было частное дело договаривающихся сторон со всеми присущими ему рисками, которые берутся ими на себя, а не планируется перекладывать на чьи-то, не ожидающие этого, плечи.
III
Скептически относясь к желанию государства поучаствовать в прямом финансировании рыночных структур вообще, я, тем не менее, убеждён, что при тушении разгоревшегося было пожара в банковском секторе в начальной стадии кризиса федеральное правительство поступило вполне разумно, иначе мы сейчас вполне могли бы пребывать лишь на развалинах своей экономики.
Кредитование банков было связано не столько с какими-то фундаментальными внутренними для них причинами, свидетельствующими о неустойчивости системы (Центробанк последние годы достаточно бдительно стоял на страже), сколько с потребностью погасить панику, возникшую у корпоративных кредиторов и населения в условиях форс-мажора.
То есть, главным образом это была лишь плата за страх. Что же касается последующих действий правительства вплоть до настоящего времени, то здесь сложно давать однозначные оценки. Для этого нужна довольно объёмная аналитическая работа.
Тем не менее, информация, доступная мне, как и всем желающим, даёт возможность для некоторых выводов.
Рубль полегчал раза в полтора.
Для того, чтобы процесс был постепенный, Центробанк израсходовал для интервенций на ММВБ десятки миллиардов долларов.
Власть предержащие, вроде как, гордятся тем, как это было сделано хорошо, плавно, не возбуждая панических настроений (речь идёт уже не об изъятии банковских вкладов, про что говорилось ранее, а бегстве народа от рубля к доллару или евро – это несколько иное).
Так вот, именно здесь я не уверен, что рубить «хвост» по частям, да ещё за такие деньги, лучше, чем сразу весь и бесплатно.
Не уверен, что «ужасный конец» хуже «бесконечного ужаса».
Не уверен, что этим долларам нельзя было найти лучшее применение, в том числе, и способное пригасить возможную панику и предотвратить дальнейший обвал рубля.
Одно спокойное умно прокомментированное заявление о проведении разовой девальвации, думаю, было предпочтительнее целого ряда растянутых во времени заявлений о том, что девальвации дескать нет, а имеет место некое колебание курса.
На фоне очевидного для всех факта её проведения в несколько этапов с попутной потерей валютных миллиардов, потраченных для интервенций на бирже, такие заявления ничего кроме сарказма у населения не вызывали и для власти это не есть хорошо.

