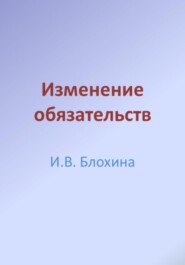 Полная версия
Полная версияИзменение обязательств
Теория правопреемства была изложена в монографической работе Б.Б. Черепахина «Правопреемство по советскому гражданскому праву»88 и на сегодняшний день считается классической. В соответствии с ней к правопреемнику от правообладателя переходит само субъективное право последнего.
Следует отметить, что означенная позиция о сущности правопреемства носит дискуссионный характер. В качестве альтернативы предлагается понимание правопреемства как прекращения субъективного права у одного лица с одновременным возникновением у другого лица нового права, полностью (либо в соответствующей части) содержащего в себе все черты права первоначального89.
В настоящее время точки зрения, что субъективное право принадлежит конкретному субъекту и только ему, являясь неразрывно связанным с ним, придерживается, например, С.Б. Култышев. Он отмечает, что «при правопреемстве эта связь разрывается и право прекращает свое существование. Возникая у иного лица, и будучи совершенно идентичным в своем содержании и объекте, это будет уже другое право, абсолютно схожее с первоначальным, но не оно само. Данное право будет составлять содержание иного правоотношения, в основе которого будет лежать иной по сравнению с первоначальным юридический факт (состав), явившийся основанием правопреемства»90.
Однако такая точка зрения все же не объясняет появления идентичного субъективного права у другого лица, а также того обстоятельства, что при перемене лиц не происходит изменения сроков исковой давности и порядка их исчисления (ст. 201 Гражданского кодекса Российской Федерации). Кроме того, признаются сохранившимися все обеспечительные права, возможности предъявления заявлений о зачете и т.д.
Следствием перехода прав в порядке универсального правопреемства может стать не только замена кредитора, но и появление множественности лиц на активной стороне обязательства. Такая ситуация возникает в том случае, если правопреемников наследника или организации-предшественника окажется несколько. При этом все они становятся сокредиторами, если иное не установлено соответственно в завещании или передаточном акте.
Закон связывает перемену кредитора также с переводом прав на другое лицо по решению суда. Следует отметить, что вынесение такого судебного акта возможно лишь в определенных случаях. Например, преимущественным правом на заключение договора на новый срок пользуются арендаторы (ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если же арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе потребовать в суде перевода на себя прав по заключенному договору.
Такой же спецификой обладает изменение субъектного состава обязательства между обществом с ограниченной ответственностью и его участниками. Речь идет о преимущественном праве покупки остальными участниками и самим хозяйственным обществом доли, продаваемой другими участниками этого общества, по цене предложения третьему лицу. Данное право призвано ограничить вхождение в состав участников третьих лиц, в том числе недобросовестных участников рынка, и в случае нарушения этого права потерпевшему участнику предоставляется возможность в суде требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя.
Закон предусматривает переход прав кредитора и в специфических ситуациях. Так, в силу закона к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора (п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации). Юридическим фактом, с которым закон связывает переход прав кредитора, является действие поручителя по исполнению за должника его обязанности. Только после этого можно говорить о наступивших переменах в субъектном составе.
Одним из оснований перехода прав кредитора в обязательстве является суброгация. Как отмечал Р. Саватье, вступление в права кредитора (суброгация) неразрывно связано с исполнением обязательства лицом, не являющимся должником. Поскольку в общих интересах устойчивости делового оборота важно, чтобы долг оплачивался по наступлении срока, платеж, даже если он совершен другим лицом, с точки зрения юридической всегда желателен. Это помогает избежать катастроф, обеспечивает устойчивость делового оборота. Для того чтобы поощрять платежи, закон предоставляет или разрешает предоставлять лицу, уплатившему долг, все права, которыми обладал кредитор по обязательству. Здесь происходит суброгация. Техника этой операции основана на фикции. Как только совершен платеж и право требования у кредитора прекращено, оно юридически возрождается у совершившего платеж. При этом сохраняется тот же должник, те же обеспечения, тот же характер обязательства, те же проценты91.
Действующее гражданское законодательство связывает суброгацию со страховыми обязательствами. Р. Саватье рассматривал вступление в права кредитора также на основании договора, указывая, что кредитор, счастливый тем, что он получает платеж, не чинит никаких препятствий, для того чтобы передать уплатившему долг по его требованию то, что называют документом о суброгации. Этот акт имеет две цели. Во-первых, он констатирует прекращение обязательства, исполненного прежнему кредитору, но с другой стороны, он устанавливает, что лицо, совершившее платеж, вступает в права кредитора во всем, что связано с исполненным им обязательством. Последнее возрождается к выгоде уплатившего на основании такого соглашения. Рассматриваемая суброгация должна быть осуществлена только в момент платежа.
В качестве примеров законной суброгации Р. Саватье приводит солидарных должников, неделимых или должников in solidum, либо лиц, уплачивающих «за других», как, например, поручители. Если они совершают платеж кредитору, они могут осуществлять его права в отношении своих содолжников за вычетом своей доли долга, когда речь идет о регрессном иске поручителя к сопоручителю либо солидарного должника к содолжникам92.
Таким образом, суброгация в любом виде представляет собой юридическую фикцию сохранения обязательства при переходе прав кредитора к лицу, исполнившему обязательство.
Как уже отмечалось, в гражданском праве России суброгация как способ перемены лиц в обязательстве признается лишь в случае произведения страховщиком страховой выплаты. Исполнение обязательства поручителем или содолжником в солидарном обязательстве выведены за рамки суброгации. Причем, если переход прав кредитора к исполнившему обязательство поручителю также узаконен, регрессное требование солидарного кредитора рассматривается как самостоятельное.
Современные законодательные установления обусловили разделение суброгации и регресса, несмотря на единую суть рассматриваемых явлений. Отсюда, согласно положениям действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, при возмещении вреда в порядке регресса отношения между должником и прежним кредитором (потерпевшим) прекращаются, и возникают совершенно новые отношения между прежним должником и новым кредитором; течение исковой давности по регрессным обязательствам начинается с момента исполнения основного обязательства, в отличие от суброгации.
В части 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что страховщик может рассчитывать на переход к нему права требования в порядке суброгации при наличии между ним и страхователем договора имущественного страхования (добровольного либо обязательного). В этой связи при иных видах страхования, например, страхование жизни и здоровья, переход права требования в порядке суброгации невозможен.
Думается, логичным было бы расширение понятия суброгации в законодательстве и унификация прав лиц, исполнивших обязательство за должника, в том числе распространение этого понятия на поручителя, залогодателя, не являющегося должником, страховщика и иные случаи исполнения обязательств третьим лицом, в том числе солидарным должником, поскольку правовая природа этих отношений едина. Лицо, производящее платеж, всегда имеет в виду основание платежа, в том числе, если делает это за должника. Самостоятельность регрессного требования куда более сомнительна, нежели сохранение правоотношения в измененном виде с новым кредитором.
Действующее гражданское законодательство России (ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации) предусматривает также такой способ замены кредитора в обязательстве, как исполнение обязательства третьим лицом. Это возможно, если исполнение возложено на указанное третье лицо должником или, если должник не возлагал такого исполнения, по инициативе самого третьего лица в случаях, когда должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства и третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.
От перечисленных выше случаев данная норма отличается тем, что позволяет произвести исполнение за должника любому лицу, в том числе не связанному с должником или его кредитором какими-либо правоотношениями, основанными на законе или договоре. При этом, все-таки, законодатель защищает должника от недобросовестных третьих лиц, обязывая последних доказать соответствующее волеизъявление должника или опасность утраты своего права на имущество должника.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что, изменение обязательства на стороне кредитора может происходить по воле последнего и независимо от нее. В первом случае способом изменения является цессия (уступка права). При этом ее последствием может быть как замена кредитора, т.е. прекращение субъективного права у цедента и возникновение такого права у цессионария, так и появление множественности на стороне кредитора.
Изменения на «активной» стороне обязательства независимо от воли кредитора происходят ввиду наступления определенных обстоятельств (или их совокупности), если закон связывает с этим переход прав кредитора к другим лицам, например, при исполнении обязанности должника третьим лицом
Возможность замены кредитора в большинстве случаев не связывается с наличием у нового кредитора специальной правосубъектности или способности заниматься предпринимательской деятельностью, даже если первоначально обязательство было связано именно с данными видами деятельности. При этом в частном виде установление такого рода ограничений все же встречается в законодательстве. Проводя аналогию с правом собственности на вещи, ограничение оборотоспособности прав (требований) в общем виде логично, однако не приживается в обществе, несмотря на то, что наличие в гражданском праве таких инструментов обезличения требований, как вексель, чек, позволяет удовлетворить потребности экономики в свободной передаче прав.
2.3 Изменение обязательств на стороне должника
Как справедливо замечал Г.Ф. Шершеневич, если признанию возможности перемены активного субъекта препятствовали юридические мотивы, основанные на взгляде римского права, то против перемены пассивного субъекта говорили соображения, вытекавшие из существа обязательства. Если кредитор вступил в обязательственное отношение, так это потому, что он верил исполнительности должника. Возможность со стороны последнего заменить себя другим без согласия кредитора отнимала бы у этой веры всякое основание93.
В римском праве вступление нового должника на место прежнего чаще всего имело место при продаже наследственной массы, охватывающей вещи, права требования и долги. Когда кредитор наследственной массы прямо или косвенно выражал согласие на замену должника, например, кредитор предъявил иск к покупателю наследства, а покупатель вступил в ответ по иску, то тем самым замена прежнего должника, т.е. наследника, новым, т.е. покупателем, совершилась. При отсутствии прямого или косвенного согласия кредиторов на продажу наследства и тем самым на изменение личности должника ответственность по долгам наследственной массы оставалась на продавце-наследнике, как это было в старину, когда наследник, продавший наследственную массу после принятия наследства, оставался наследником в том смысле, что отвечал по долгам наследства. Однако наследнику, удовлетворившему требования кредитора, предоставлялось в свою очередь право обратного требования к тому, кому была продана наследственная масса94.
Перемена пассивного субъекта без согласия кредитора допускалась также при займах, обеспеченных залогом недвижимости. В торговом обороте практиковалось нередко отчуждение и приобретение торговых предприятий в полном их составе, с активом и пассивом. Последние два случая могут найти себе объяснение. В первом примере обязательство основано на реальном кредите, обеспеченность верителя не уменьшается от перемены должника, потому что остается неприкосновенной ценность залога. Во втором примере кредит торгового предприятия опирается не на личности предпринимателя, иногда даже неизвестного кредиторам, а на успешном ходе дел самого предприятия; поэтому, опять-таки, с переменой должника обеспеченность кредитора не ослабляется95.
Обобщая приведенные случаи, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что замена одного должника другим без согласия кредитора могла бы быть допущена законодателем, насколько это обстоятельство не лишает и не ослабляет основания веры кредитора в осуществимость его права требования. С согласия кредитора многие обязательства допускают перемену субъекта на пассивной стороне без изменения существа отношения. Так, например, по Германскому гражданскому уложению должник по договору с третьим лицом мог перевести на него свое обязательство, если на то было согласие верителя. Со временем пробивается идея допустимости перехода обязательств с пассивной стороны и без согласия верителя. Именно по Германскому Торговому уложению 1897 года и по французскому Закону 17 марта 1909 года при отчуждении торгового предприятия на приобретателя переходят не только права, но и долги по предприятию без испрашивания согласия верителей, но, правда, под условием временной ответственности перед ними обоих, то есть как приобретателя, так и отчуждателя96.
Русское законодательство не давало общего руководящего начала для разрешения настоящего вопроса, да и относительно отдельных случаев взгляд его скорее был отрицательный, чем положительный. Российские законы, по общему правилу, не допускали продажи заложенной недвижимости с переводом долга. Однако при переходе заложенного в банке имения от одного лица к другому на нового приобретателя переводился долг прежнего собственника и переходили все вообще обязательства последнего в отношении к банку. В случае передачи квартиры, причем на новое лицо, переносилось не только право на квартиру, но и обязанности перед хозяином. По этому вопросу Сенат высказал мнение, что такая передача квартиры допустима и без согласия домохозяина, если прежний наниматель не слагает с себя обязательства, и недопустима без его согласия, если договор направлен к полной замене прежнего нанимателя его преемником97.
По сути дела, речь в последнем случае идет о возможности изолированного перевода долга в обязательстве по найму квартиры. При этом необходимость получения на это согласия наймодателя обусловлена полным выбытием нанимателя из правоотношения. В противном случае перевод долга по оплате может быть осуществлен и без согласия наймодателя, поскольку обязанность по оплате найма останется за первоначальным нанимателем.
В.И. Синайский отмечал, что для обозначения замены должника в обязательственном правоотношении в результате перехода его обязанностей к другому лицу дореволюционными юристами наиболее часто употреблялись термины «перевод долга» и заимствованный из римского права – «делегация». Он выделял делегацию по закону, например, при наследовании должнику, и договорную делегацию, которая возможна в двух видах. Или таким образом, что долг переводится на другое лицо по соглашению с ним кредитора, или так, что долг переводится на другое лицо по соглашению с ним должника. В первом случае, необходимо освобождение кредитором от обязательства должника, так как в противном случае не будет перевода долга, а будет кумуляция; во втором случае требуется согласие кредитора, т.к. для кредитора далеко не безразлично, кто явится его должником. Но при такой конструкции договорной делегации, считал В.И. Синайский, в сущности, нет изменения обязательства, а есть установление нового обязательства с содержанием старого обязательства98.
Подобная точка зрения изложена Р. Саватье. Он, в частности, отмечал, что делегация представляет собой договор, посредством которого должник представляет нового должника своему кредитору, дающему на это согласие. Первый из них – делегирующий. Он представляет делегируемого в качестве должника, а кредитор по делегации дает свое согласие.
Поскольку новация не презюмируется, то при отсутствии противоположного условия делегирующий остается основным должником кредитора. Кредитор обратится к нему, если делегируемый не выполнит своего обязательства. Пока положение дела остается на этой стадии, говорят, что делегация является незавершенной. Она становится завершенной, если кредитор освобождает делегирующего от его обязанностей взамен обязательства, принятого на себя делегируемым. В этом случае будет иметь место новация посредством замены должника99.
Вообще в период с середины 19 – начала 20 вв. в науке гражданского права неоднократно делаются попытки классификации перевода долга. По способу перехода обязанностей первоначального должника к новому должнику обязанностей различались:
1) «договорной переход» обязанностей, осуществляемый в рамках договорной конструкции перевода долга100;
2) переход обязанностей в составе наследства101;
3) переход обязанностей вместе с имуществом (переходом прав на имущество)102.
Наиболее часто в работах юристов встречается классификация случаев перемены должника в обязательственном правоотношении по их основаниям (юридическим фактам), с наступлением которых закон связывает изменение обязательств. Среди таких оснований называются закон и юридическая сделка (договор).
И.Н. Трепицын выделял три основания для «изменений в личном составе контрагентов» в обязательстве: 1) закон; 2) судебное решение и 3) юридическую сделку (договор)103. Замена первоначального должника другим должником «на основании и силою предписаний самого закона», по словам И.Н. Трепицына, прежде всего «происходит при наследовании: по долгам наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, являются новыми должниками его наследники». «Затем, – писал И.Н. Трепицын, – перемена должника при сохранении обязательства происходит по закону при продаже отданных в наем недвижимостей». В качестве сделок, на основании которых может произойти «замена одного должника другим», И.Н. Трепицын называл завещание, когда завещатель возлагает на наследников свои обязанности, долги, и договор о переводе долга.
Перевод долга, основанный на соглашении, допускался лишь с согласия кредитора. Данное правило разделялось всеми без исключения цивилистами и нашло отражение в судебной практике в решениях Правительствующего Сената.
Такой перевод долга отграничивался от так называемого кумулятивного перевода долга. Последний не требовал согласия кредитора, поскольку не был связан с переменой лица в обязательстве104. При таком «переводе», по словам П.П. Цитовича, «должник не выбывает из обязательства, но к нему пристает, присоединяется еще и другой должник, то есть создается множественность на пассивной стороне»105. Новый должник в этом случае, как замечал И.Н. Трепицын, «становится рядом с первоначальным должником, который не выходит из обязательства; число должников таким образом увеличивается, а потому и обеспеченность требования возрастает; здесь новый должник может занять или равное место с первоначальным должником (например, последующая пассивная солидарность), или неравное, подчиненное место (например, поручитель, примыкающий к обязательству)106.
Таким образом, перевод долга мог осуществляться в двух договорных формах:
«1) или соглашением кредитора с третьим лицом, которое принимает на себя обязанность первоначального должника; но здесь нужно, кроме того, и освобождение первоначального должника, чтобы не произошла кумуляция;
2) или – соглашением должника с третьим лицом по тому же предмету; но здесь необходимо, кроме того, согласие кредитора, так как перемена в лице должника может весьма существенно отразиться на его интересах»107.
Обе из указанных форм были известны авторам проекта Гражданского уложения Российской Империи. Однако при работе над проектом редакционная комиссия пришла к обоснованному выводу, что о первой из вышеуказанных форм «нет основания особо упоминать в проекте, ибо такой договор подлежит общим правилам о договорах, заключенных в пользу третьего лица, по применению коих изъявление должником согласия на оный имеет то последствие, что договорившиеся стороны не в праве после того изменить или отменить договор, если не сохранили за собой этого права в самом договоре»108.
Таким образом, замена должника в обязательстве, основанная на соглашении кредитора с третьим лицом, принимающего на себя обязанность первоначального должника, была выведена за пределы регулирования главы об уступке требований и переводе обязательств проекта Гражданского уложения, а в проектируемых статьях о переводе долга нашла закрепление конструкция, основанная на соглашении должника с третьим лицом.
Согласие кредитора на перевод долга рассматривалось в качестве юридического факта, с которым связывался переход обязанностей к новому должнику. «Договор о переводе обязательства, – разъясняли авторы проекта Гражданского уложения, – переносит ответственность по обязательству с должника на третье лицо лишь со времени изъявления на то согласия со стороны верителя, так что если согласия не последует, то и переход означенной ответственности считается не совершившимся, т.е. должник не освобождается от обязательства»109.
Отсутствие согласия кредитора не влияло на действительность самого договора о переводе долга. Частью 2 ст. 163 проекта Гражданского уложения (ред. 1914 г.) предусматривалось, что «лицо, принявшее на себя обязательство должника, несет в отношении его обязанность своевременно удовлетворить верителя, хотя бы последний отказал в согласии на перевод обязательства».
С момента получения согласия кредитора «новый должник получает право пользоваться всеми теми возражениями против кредитора, которые вытекают из главного обязательства. Это следует из того, что новый должник занимает место прежнего и, значит, воспринимает все то главное (в плюсе и в минусе), что имелось у его предшественника: здесь происходит частное преемство в долге»110.
Следует отметить, что российская дореволюционная правовая мысль продвинулась в вопросе перемены должника куда более, нежели современная. Проблемы влияния перевода долга на состояние обязательства получили серьезное и глубокое исследование.
Современное право до недавнего времени уделяло перемене должника значительно меньше внимания, чем перемене кредитора. Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве формы перемены должника называл лишь перевод долга и не упоминал об иных случаях замены должника. При этом легальная дефиниция перевода долга отсутствует до сих пор, что порождает различные подходы к рассматриваемому правовому явлению.
Например, В.А. Белов считает, что перевод долга есть результат реализации сложного юридического состава, состоящего из: а) договора о переводе долга, по которому одна сторона (старый должник-делегант, или переводитель) слагает с себя обязанность, составляющую содержание определенного обязательства, перелагая (переводя) ее на другую сторону – нового должника (делегата, или принимателя), и б) односторонней сделки кредитора (делегатария), содержание которой заключается в даче им согласия на замену должника в обязательстве в соответствии с договором о переводе долга111.
При этом В.А. Белов делает вывод, что результатом заключения договора о переводе долга является возникновение правоотношений между должниками – старым и новым, а результатом дачи согласия кредитора – возникновение новых обязательственных правоотношений между кредитором и новым должником и прекращение обязательственных отношений между кредитором и первоначальным должником. Перевод долга, по мнению ученого, служит основанием возникновения двух отношений, причем в каждом из них по два участника, и основанием прекращения одного отношения, также двустороннего. То есть В.А. Беловым не признается факт изменения обязательства при переводе долга, а указывается на прекращение правоотношения у одних лиц и возникновение у других.
Изложенная позиция раскрывает отношения, возникающие при переводе долга с внутренней стороны, то есть со стороны субъективных прав и обязанностей. Формально же, с внешней стороны, перевод долга не влечет прекращения обязательства, что находит подтверждение в нормах гражданского права.



