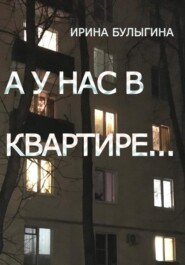
Полная версия:
А у нас в квартире…
Конечно, шили и вязали практически все. В те времена, помимо ателье, было огромное число частных портних, они нигде не числились, но были хорошо известны благодаря сарафанному радио. Они вынуждены были скрывать эту свою деятельность, поэтому попасть к ним можно было только «по рекомендации». Моя другая тётушка – Клава – была из их числа. Причём, благодаря своему вкусу и умению, она имела весьма хороший доход и элитную клиентуру, у неё шили платья и пальто даже балерины Большого театра. И при этом она не была профессиональной портнихой, по-моему, даже никогда этому не училась. Так что, пошить – не вопрос. Вопрос – из чего.
И вот тут нужно было отправляться «на добычу» в столицу. Приезжих в Москве было всегда много, и они были заняты поиском товаров в магазинах, поэтому очереди были даже в магазинах «Ткани», что сейчас трудно себе представить. Когда перед Олимпиадой-80 въезд в Москву был ограничен, прежде всего бросилось в глаза отсутствие толп покупателей в магазинах.
В семье моих родителей императивом было привезти всем родственникам (по списку!) подарки из-за границы, поскольку мои родители (в силу специфики работы отца) ездили в загранкомандировки, а они – нет. Привозили не сувениры и не готовую одежду или обувь, а, в первую очередь, «отрезы», пряжу для вязания, шарфики-платочки, галстуки и другие милые вещицы. Всё это раздаривалось и, что приятно, вспоминается роднёй с теплотой до сих пор. Но! Командировки были не частыми, а жизнь шла, дети росли, одежда и обувь портилась и нужна была новая. Поэтому наши родственники, как и все провинциалы, отправлялись в Москву, чтобы прикупить что-то. Дядя часто ездил в командировки, решал вопросы строительства, а всё свободное время отдавал «добыче». Он был добытчиком в семье и, по-моему, очень этим гордился. Тётя давала указания издалека. Когда он приезжал, то всегда останавливался у нас дома.
Процесс «доставания чего-либо» был вынужденным развлечением части населения (прежде всего тех, кто стремился к какому-то благополучию), а по мере усугубления экономической ситуации и исчезновения с прилавков продуктов он стал всеобщим.
Я помню период, когда дядя покупал и вёз домой только что-то из одежды, обувь, игрушки для детей, ну, ещё кофе из Елисеевского магазина. Помню и период, когда он возил кур, колбасу и масло, гречку и апельсины… Он был вынужден это делать, хотя и занимал должность главного инженера крупного строительства. Было ему стыдно или неловко этим заниматься? – Нет! Надо было жить в предлагаемых обстоятельствах, а наш народ умеет это, наверное, как никакой другой.
Москвичи, конечно, слегка «скрипели» из-за наплыва иногородних в московские магазины, но все всё понимали, у всех были родственники или друзья в провинции. «Непонимающих» было мало. Я встречала таких, работая в Академии. У нас в отделе работала замечательная женщина, Зоя Дмитриевна. Она выросла в семье аппаратчиков ЦК КПСС, она всю жизнь проработала в Академии, она была замечательным, добрым, одиноким и … оторванным от реальной жизни человеком. Как-то я вернулась из очередной командировки в город Горький и рассказала, что там в магазинах нет мяса вообще, а только жир и кости, она мне не поверила и долго считала, что я «очерняю» действительность.
Так вот, проблемы и переживания начинались у моего дяди уже дома, когда тётя начинала «приём товара». Очень многое из того, что он покупал, решительно не соответствовало вкусу тёти. Что делать, ведь он должен был покупать и женские вещи. А тут выбор мужчин и женщин, их предпочтения очень часто не совпадают. Особенно это касается обуви. Одни туфли, чуть ли не запущенные с гневом в его сторону, он припоминал потом всю жизнь.
Та обувь, которую «выкидывали» в магазины, закупалась нашими внешнеторговыми организациями, как правило – в странах соцлагеря: Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии (югославская была лучшей). Качество – весьма и весьма приличное. Но что-то мне подсказывает, что ассортимент её определяли мужчины. Поэтому мы и скакали по сугробам на каблуках. Да, каблуки были в то время в моде, но зима в Европе и у нас – это, как ни крути, не одно и то же. Когда родители осчастливили меня возможностью купить сапоги за валютные чеки в «Берёзке», и я купила чудесные австрийские сапожки БЕЗ каблука, я, наконец, в буквальном смысле почувствовала почву под ногами.
В принципе, я ничего не имею против обуви на каблуках, просто считаю её неудобной, неустойчивой, сковывающей. Эта обувь требует к себе уважения: передвигаться желательно не спеша, ходить на каблуках (высоких) нужно уметь, иначе есть риск превратиться в подобие жука на согнутых коленках, нужно дружить с обувной мастерской, потому что набойки на каблуках стираются, слетают, их нужно менять, да и сами каблуки ломаются. Поломка каблуков, кстати, сюжет, обыгранный во многих фильмах. Как мужественно и умело выглядят там мужчины, подхватывающие девушек на руки, прибивающие каблуки!.. У меня каблук сломался на лестнице, когда я, спускаясь, зацепила им ступеньку. Я пролетела всю лестницу вниз и, в итоге, разбила подбородок. Коллеги «мужественно» помогли, отвезли в поликлинику. А на всю жизнь остался на подбородке шрам. Такие или подобные истории, думаю, могут вспомнить многие женщины. Чего стоит, например, спуститься на шпильках по эскалатору в метро.
Так что, когда в моду вошла обувь на танкетках, я была очень рада и полюбила их всей душой!
А уж мода на обувь без каблука – абсолютно моя! Спасибо, что весы моды качнулись в её сторону именно тогда, когда мне это было особенно нужно, а именно, когда у меня появилась семья и детишки и связанные с этим хлопоты. Мне кажется, я никогда столько не гуляла, как в период, когда росли дети. Я курсировала по маршруту: детский сад, школа, музыкальная школа, магазин, дом, по-моему, беспрерывно. Преодолевать эти расстояния в обуви на каблуках было бы невозможно. А если ребёнок просится «на ручки»? Как это сделать на каблуках? Я бы, наверное, это делала и на каблуках, потому что не хотелось снижать планку своего стиля. Хотелось быть удовлетворённой своим отражением в зеркале. Но это было бы и сложнее, и травмоопаснее. Поэтому появление разнообразных симпатичных моделей мокасинов, туфелек-балеток, эспадрилий было очень кстати. И кроссовки, конечно!
С кроссовками, кстати, так полюбившимися всем, последние годы происходит явный перебор: они вытесняют любую другую обувь. Их носят и зимой, и летом, и с джинсами, и с платьями, и с мужскими костюмами. И в лес, и в театр…. Да, они очень удобны и по-своему красивы. Но мне кажется, что эта история с кроссовками – часть той самой унификации, усреднения всего и вся, в которой мы погрязли.
Поэтому, хоть я и не люблю обувь на каблуках, пусть она будет, в том числе – и в моём гардеробе. Вот только надевать её, если вы не привыкли носить её всю жизнь и нет каких-то физиологических причин (маленький рост, деформация стопы «под каблук» и т. п.), нужно при соблюдении нескольких условий.
Во-первых, нужен повод, и он должен быть таким же красивым, как и обувь;
во-вторых, под ногами не должно быть скользко;
в-третьих, к обуви на каблуках желательна машина (или лошадь, если мы говорим о мужской обуви);
наконец, в-четвёртых, нужен мужчина, который оценит ваши каблучки!
ПАЛЬТИШКИ
Пальто – такая же почти неменяющаяся одежда, как и само слово, её обозначающее: несклоняемое, не имеющее множественного числа, типичное исключение в русском языке. Пальто умудряется жутко надоедать, потом исчезать и появляться снова практически в неизменном виде. Меняются ткани, но не меняется образ.
Всё своё детство я проходила в зимние месяцы в пальто. И если детские пальтишки были ещё более-менее симпатичными, даже – весёленькими по цвету, то на пороге вступления во взрослую жизнь я столкнулась со взрослыми классическими пальто, и с той поры во мне расцвели к ним негативные чувства. Тяжёлые, неудобные, что с ними не делаешь – красивее не становятся!
Поэтому, когда в 15 лет я получила в подарок куртку, привезённую кем-то из папиных друзей из-за рубежа, я без капли сожаления рассталась с классическим пальто на долгие годы. Курточка моя, надо сказать, была довольно холодной, не рассчитанной на нашу зиму, что называется, «на рыбьем меху». Как я сейчас понимаю, это было моё первое свидание с синтепоном. Но, во-первых, она была оранжевой, во-вторых, с карманами на молниях и, в-третьих, с капюшоном. И я с восторгом носила её даже в сильный мороз, категорически отказываясь выполнить требование родителей и надеть пальто. Конечно, чтобы не мёрзнуть, приходилось идти на ухищрения: надевать под неё тёплый-претёплый свитер или кофту, сшить брюки из отреза толстенной шерсти, накручивать шарф. Да всё, что угодно, только не назад в пальто!
Родители моих чувств не разделяли. Для их поколения пальто обладало ценностью, пожалуй, не меньшей, чем шинель для Акакия Акакиевича из повести Н. В. Гоголя. «Справить» пальто было серьёзным предприятием. Можно было, конечно, купить готовое, но уж очень примитивными были модели, предлагаемые в магазинах. Большинство шило пальто на заказ в ателье или у портних, по индивидуальным меркам. Тогда не было понятия «оверсайз», наоборот, пальто должно было быть сшито «по костям», чтобы никто не подумал, что оно «с чужого плеча».
Поэтому сначала приобретался «отрез» драпа или букле, затем всеми правдами и неправдами доставался мех на воротник. Я, честно говоря, даже не знаю, где. По-моему, доступным простому человеку мехом были только кролик и цигейка, а на воротниках у взрослых присутствовал каракуль, норка, бобёр, позже – лиса и песец. Дальше – подкладка, ватин. И со всем этим добром – сдаваться швеям, а потом ждать, ездить на примерки, в общем, целая эпопея. Если кто-то из вас когда-нибудь вспарывал подкладку тех старых «добротных» пальто, тот, думаю, как и я, был поражён, сколько всего ещё находится под ней. Я, например, обнаружила там жёсткие укрепляющие материалы с конским волосом, очень плотные бортовки, ватные подплечники, ватин, и всё это часто – не в один слой. Этакий многослойный пирог. Все материалы, естественно, натуральные, а потому тяжёлые.
Если уж пальто шили, то на много лет. Если верхний слой ткани становился непрезентабельным, пальто перелицовывалось: распарывалось и сшивалось изнаночной стороной наверх. Я говорю о зимних пальто, поскольку демисезонных пальто что-то у родителей, бабушек и дедушек и не помню. Осенью носили плащи, а потом сразу – в пальто.
Некоторые женщины носили шубы. В отличие от пальто шуба была уже роскошью, сравнимой с румынским мебельным гарнитуром или ковром. И такое отношение к шубам, пожалуй, живо до сих пор.
В нашей семье не было ни гарнитура, ни ковра. И, видимо, под давлением родственников или просто, чтобы сделать маме приятное, была предпринята попытка покупки шубы. И где-то в середине 50-х (то ли по талонам, то ли просто – «выбросили») после того, как отстояли в очереди в ЦУМ несколько часов, родители купили шубу. Я даже не знаю – какую, я её ни разу не видела. А мама – ни разу не надела! Она была удивительно скромным человеком и, видимо, так и не собралась с духом предстать в образе «роскошной женщины». Куда шуба делась, я не знаю, а история мне стала известна от тёти, которая сама была модница и роскоши не чуралась, поэтому не понимала такого поведения.
Другая «шубная» история – от моей любимой свекрови. В начале 80-х она получила наследство от своей тёти, полжизни прожившей с мужем в Чехословакии. По доброте душевной она решила сделать щедрый подарок своей первой невестке, купила и привезла ей шубу. Свекровь, человек очень эмоциональный, надеялась на восторженную реакцию. А получила в ответ сухую, дежурную благодарность. Может, шуба не понравилась или не подошла… Свекровь моя очень обиделась и не могла простить этого факта всю жизнь.
Это я к тому, что шуба воспринималась как абсолютная ценность, независимо от того, удобная она или нет, подходит ли женщине, из какого меха. Шуба – это шуба! К ней было отношение, как к живому существу: «Пойду, прогуляю шубу! Надо шубе проветриться! Шубка моя заскучала!» Такое вожделение шубы в 90-е вылилось в то, что мы все накупили аргентинских шуб из нутрии, которые появились в магазинах в невероятном количестве и по доступным ценам. Качество и самих шуб, и меха было, как потом выяснилось, ниже среднего. Но несбыточная до этого для многих мечта иметь шубу была осуществлена. Мне тоже была мужем куплена такая как подарок на День рождения. И я была рада! Год поносила, мех начал вылезать, швы рваться. Упрятала её в дальний угол гардероба. Её, может быть, и можно было ещё поносить, но, когда все вокруг, независимо от возраста, ходят в подобных шубах, это выдержать уже невозможно! С той поры и, думаю, навсегда, шуба для меня – пустое место. Совсем другое дело – дублёнка!
Историки моды проследили, что дублёнка имеет русские корни и пошла от овчинного тулупа. Конечно, это так. И, как это часто у нас бывает, опять совершив освежающие процедуры в модных домах Франции, Италии, США, тулупы вернулись к нам в новом свете. Когда всем захотелось иметь дублёнку, а их в продаже не было, даже в Москве модники стали носить укороченные тулупы, поскольку отечественная промышленность, как всегда, не среагировала.
Дублёнка прилетела к нам почти одновременно с джинсами, как противовес классическим пальто и шубам – свободная от канонов, разнообразная, неформальная. Своей демократичностью она привлекла огромное количество поклонников обоих полов и всех возрастов. Мы снова быстро считали сигнал из массовой культуры: Битлы сделали фотографию в дублёнках, в фильме «Мужчина и женщина» героиня – в дублёнке, и герои «Иронии судьбы» опять же.
Любовь к дублёнкам у многих длится всю жизнь. И даже с развитием зоозащитного движения, когда шуба из натурального меха стала социально неодобряемой, дублёнка не особо пострадала, поскольку баранину есть продолжали и отказываться от потребления мяса люди в большинстве своём не собираются.
В нашей семье дублёнки сыграли очень большую роль. Собственно, в самом возникновении семьи поучаствовала моя болгарская дублёнка.
1984 год. Мы с Володей работаем в одном институте, в одном кабинете в здании на Садовой-Кудринской, 9. Оба состоим в законных браках, у обоих они не очень удачны, маемся в них. Поэтому домой не особо спешим. «Флюиды» летают между нами уже года четыре, но этой зимой они становятся неудержимы. Вспыхивает очень сильное и страстное чувство, справиться с ним, обуздать его уже невозможно.
Вечер, рабочий день давно закончен, снег за окном, кабинет закрыт на ключ изнутри, моя дублёнка брошена на пол… С тех пор мы вместе. И каждый год в середине января отмечаем День первого поцелуя, как мы его целомудренно назвали, и вспоминаем участницу события – дублёнку.
Дублёнки прокормили нас осенью 1992 года. Сейчас часто вспоминают 91-й, разбираются в причинах и следствиях. Но самым тяжёлым был, во всяком случае, для семей, 92-й. Денежная реформа начала года, ликвидация сбережений, отсутствие зарплат и бешеные цены, потеря работы, разгул бандитизма, беспризорники(!) и бомжи на московских улицах. И ожесточённые споры на кухнях, особенно – между представителями разных поколений. И кругом – ложь и обман. Как выживать? Но – надо. К осени ситуация в семье такова: годовалый ребёнок на руках, которому, к счастью, ещё положены бесплатные продукты, распределяемые через молочную кухню, дед-пенсионер, чья пенсия идёт на общие нужды, гуманитарная помощь (знаменитые «ножки Буша» и не только), копеечное пособие по уходу за ребёнком и отсутствие зарплаты по месту работы мужа в театре. Потому как театр – на хозрасчёте, а у зрителей элементарно нет денег на развлечения. Муж крутится как белка в колесе, чтобы обеспечить семью: «бомбит» вечерами и ночами на машине, соглашается на любые халтуры (в основном – рекламу). Если у нас лежала в загашнике 1000$, мы считали, что семья в полном порядке и мы продержимся несколько месяцев. Мы крутились и выкручивались, а кто-то в это время прихватывал заводы…
Единственный плюс этой ситуации в масштабах нашей семьи – бешеная популярность всего русского за рубежом. Поэтому театр стал активно ездить на гастроли, нёс отечественную культуру по миру и обеспечивал жизнь семей актёров здесь. Но отнюдь не за счёт гонораров, их практически не было. Ребята экономили небольшие суточные, выдаваемые им принимающей стороной (которая сама на них хорошо зарабатывала), приторговывали водкой и сувенирной атрибутикой, на эти деньги покупали на блошиных рынках вещички и везли сюда, чтобы продать. Так у нас появились две дублёночки с блошиного рынка из Швеции. И муж поехал в Лужники, уже на наш блошиный рынок, их продавать. И, краснея, смущаясь и отводя глаза от знакомых (которые там встречались, поскольку интеллигенция пострадала от той ситуации не меньше, если не больше других групп населения и вынуждена была распродавать нажитое: вещи, книги), торговал. И продал! Эти дублёнки кормили нас два месяца.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

