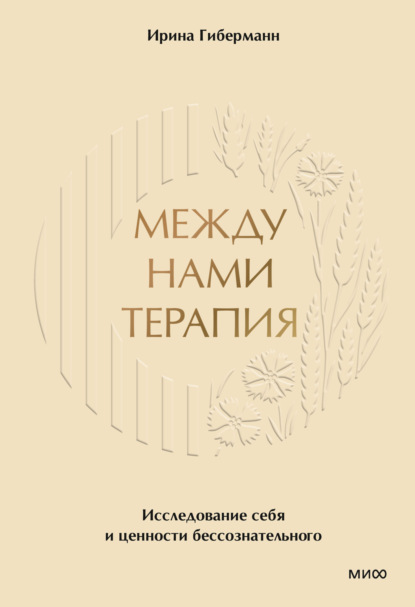
Полная версия:
Между нами терапия. Исследование себя и ценности бессознательного
Я хочу поговорить с вами о страхе. Не о страхе как эмоции. А о страхе как структуре и системе координат, внутри которой живёт психика. Которую мы не всегда замечаем – но которая определяет, куда мы смотрим, на что реагируем и в какой момент начинаем исчезать. Мне хочется сохранить личную плотность, но подать её с уважением к символике, без прямых биографических маркеров. Такой текст, на мой взгляд, создаёт больше пространства для переносов и идентификаций. Какие фрагменты станут вашими интимными, а какие-то останутся обобщёнными образами. Эта глава родилась не из теории, а из чувства и опыта, что всё внутри становится каким-то разрежённым. Бесформенным. Молчаливым. А потом – наталкиваешься на текст. На такой текст, который не просто объясняет, а отзывается в теле. Как будто кто-то говорит за тебя то, что ты пока не умеешь сформулировать. Это произошло со мной, когда я училась на аналитического супервизора. И первым заданием было – научиться читать. Нет, не людей и не «насквозь», не бессознательное, не диагностику. А просто – читать. Казалось бы, странно. Читать нас учат с детства. Но здесь учили не столько читать, сколько быть прочитанным. Нас пригласили в литературную мастерскую. Не в смысле художественного письма. А в смысле – внимательности к тому, как текст откликается в теле, в психике, в сопротивлениях. Форма мастерской была вполне формальной: нужно было выбрать книгу, написать к ней рецензию, отразить, кому она подойдёт, кому нет, какие темы поднимает, где находит, где ранит. Но, как мы быстро поняли, это было не главное. Главное – что книга делает с нами. Не какой опыт мы получаем, а как опыт работает изнутри нас. Именно это стало настоящей практикой анализа. Чтение – как контакт с бессознательным. Текст – как повод столкнуться с тем, что мы не готовы сказать себе напрямую.
Мы выбрали книгу, которая вначале показалась безопасной. Структурной. Почти профессиональной. «Переходы в профессии и организациях». Рациональный выбор. Мы ведь все были в переходе – в новую роль, в новое поле, в новую идентичность. Нам казалось, что этот выбор – логичный. Нейтральный. Подходящий по теме. Но очень скоро стало ясно: книга выбрала нас не меньше, чем мы её. Потому что уже через несколько недель стало невозможно читать её без внутренней дрожи. Жизнь вокруг начала меняться. Не громко. Но фундаментально. То, что ещё недавно казалось прочным, – стало подвижным. Рамки, в которых мы себя держали, дали трещины. Внутренние статусы сместились. Что-то закончилось. Что-то началось. Что-то отпало. Мы пришли на первый разбор с совершенно разным опытом. Один из нас прочёл книгу от начала до конца – как будто стараясь удержаться за последовательность. За порядок. За структуру. Как будто «если я дочитаю – я справлюсь». Это был способ не дать себе провалиться, способ остаться на поверхности, где всё ещё работает логика. Где форма спасает от распада содержания. Это было чтение как контроль. Другой – открыл оглавление и выбрал одну главу. Ту, что будто бы говорила с ним сильнее всего. Это был выбор по созвучию, по совпадению, по эмоциональному магниту. Как будто внутри «уже знали», где болит, и текстом пытались найти не ответ, а соучастие. Это чтение было попыткой локализовать тревогу. Схватиться за кусок, который выдерживается. Чтобы не исчезнуть целиком. А третий – остановился почти сразу. На восьмой странице первой главы. Потому что слова были слишком точны. Слишком прямы. Слишком внутрь. И не потому, что книга была сложной. А потому, что она обнажала. Она попадала в то, что ещё не защищено. Где ещё нет языка. Где всё слишком живо. И тогда – нужно было время. Пространство. Чтобы не сломаться. Чтобы не убежать. Чтобы пережить. Это не про слабость. Это про контакт. Про ту точку, где текст перестаёт быть текстом – и становится событием. Слишком рано – может разрушить. Слишком поздно – может пройти мимо. А когда попадает вовремя – приходится останавливаться.
Потому что внутри начинается работа. Настоящая работа началась в тот момент, когда мы стали обсуждать не содержание книги, а то, что она делает с нами. Как она отзывается. В какие места попадает. Почему мы вдруг не можем её продолжить – или, наоборот, не можем остановиться. Это и есть психоаналитическое чтение. Когда ты не используешь текст, а позволяешь ему использовать тебя. Когда ты не просто берёшь опыт, а даёшь опыту взять тебя. Это не учебник. Не «ещё одна теория». Это книга, в которой боль переходов описана с такой точностью, что её невозможно читать отстранённо. Она сразу втягивает тебя в твою же историю. Потому что речь там идёт не просто о профессии. А о переходах. О переходах, которые не выбираешь. И не контролируешь. Она называется «Переходы в профессии и организациях: как обходиться с неопределённостью в супервизии, коучинге и медиации»[2] под редакцией Клауса Обермайера и Харальда Пюля. Клаус Обермайер – немецкий философ, супервизор, преподаватель, который работает на стыке психодинамики и организационной психологии. Он один из немногих, кто умеет говорить о сложных внутренних процессах не с трибуны, а изнутри. Через язык, который касается. Именно в этой книге я впервые столкнулась с моделью, о которой хочу вам рассказать. Эта книга посвящена командам, трудоустройству, кризисам на предприятиях и в корпорациях, а также тому, как работает коллективное бессознательное в этих контекстах. Однако это вовсе не исключает возможности переноса данной модели на концепт индивидуального бессознательного и более детального его рассмотрения. Таким образом, наша задача – не просто пересказать существующие теории, но предложить новый ракурс: использовать профессиональные и организационные сюжеты для осмысления личных процессов. Именно в этом и заключается ценность предлагаемого подхода – в способности видеть взаимосвязь между коллективными механизмами и индивидуальной психодинамикой, находя общие закономерности в разных плоскостях жизни.
Модель называется «Уровни страха перед неизвестным». Внешне – всего пять кругов. Но если смотреть глубже – это воронка. Это маршрут, по которому психика движется в моменты перехода. От потери повседневной рутины – до страха исчезновения, пустоты, смерти. Причём не только буквальной смерти – но и той, которая происходит внутри. Когда ты ещё здесь, но уже не чувствуешь себя живым. Я решила не пересказывать вам модель «как есть» или как она работает в профессии супервизора. А пойти вместе с вами через образы, фантазию, отклик. Дать свою трактовку и оставить место для ваших интерпретаций. Психоанализ работает именно так. Он не даёт ответов. Он предлагает исследовать. Не объяснять – а приближаться. Он создаёт пространство, в котором можно встретиться: с собой, с другим, с тем, что раньше было вытеснено – и потому до сих пор работает внутри нас, вне слов, вне контроля, как тень, как след, как внутреннее смещение.
И именно это пространство я хочу сейчас открыть. Не как готовую форму. А как место соприкосновения. И пригласить вас в разговор о страхе. Но не в том привычном ключе, где страх – это просто реакция на угрозу. Не как вспышка. Не как сигнал. А как структура. Слоистая. Проникающая. Бессознательная. Где страх – это не враг. И не симптом. А среда обитания. Фоновое напряжение, на котором строится восприятие. То, в чём психика ориентируется, даже если сознание этого не замечает.
Мы все знаем такие состояния. Когда внезапно – или очень медленно – уходит то, что держало. Когда распадается сцепка между внутренним и внешним. Когда исчезает привычное: та самая рутина, которая раньше казалась мелочью, а теперь оказывается опорой. Когда социальные связи трещат – и вдруг становится непонятно, кто ты рядом с другими. И то, что ещё вчера казалось надёжным, устойчивым, «своим», – перестаёт держать. Когда разрушается форма – а вместе с ней и уверенность в направлении. Словно кто-то выключил навигатор внутри, и ты продолжаешь двигаться, но уже не знаешь куда. Когда смысл перестаёт просматриваться. Не потому, что его нет. А потому что ты перестаёшь чувствовать зачем. Когда тело начинает дрожать – даже если внешне всё «в порядке». И ты сам себе не веришь, когда говоришь: «да, всё нормально».
И тогда за всем этим начинает проступать безмолвная, едва ощутимая тень смерти. Не как трагедия. А как граница, которую больше невозможно не замечать. Как то, что всегда было рядом, но раньше было прикрыто действием, словом, смыслом, ролями. А теперь – встало за спиной. И дышит. Эта глава не про паниковать, а про быть. Быть рядом с тем, что обычно вытесняется. Смотреть туда, куда обычно не смотрим. Не чтобы срочно что-то исправить – а чтобы увидеть, как работает внутренняя сцепка с реальностью и что с ней происходит, когда она рушится.
Я расскажу через образ. Через фантазию. Через маршрут, который проходила сама. И который, возможно, проходите вы – сейчас, или когда-то до, или когда-то снова. Потому что страх – это не исключение из жизни. Это её фундаментальный слой, который, проходим мы все – в разные периоды, под разными именами, и прежде чем мы начнём разбирать модель по кругам, я хочу пригласить вас в одну фантазию. Она поможет нам не просто понять, а почувствовать. Психоанализ всегда работает через образ. Через символ, через метафору, через то, что говорит не только с разумом, но и с телом. Именно так и рождается пространство для изменений – не когда мы знаем, а когда что-то в нас вдруг начинает узнавать.
Так вот, представьте: водоём. Гладкий. Прозрачный. Спокойный. Он может быть большим или маленьким – пусть он будет таким, каким вам нужно его представить. И в этот водоём – вдруг падает камень. Не важно, кто его бросил. Это мог быть кто-то другой. Это могла быть сама жизнь. Или вы. Но факт остаётся: камень коснулся воды. И вода отозвалась. Пошли круги. Один. Второй. Третий. Они всё расходятся. Всё дальше от центра. И в то же время – всё ближе к вам. Это не просто физика. Это модель. Это то, как психика реагирует на изменение. На событие, которое нарушает прежнюю структуру.
Переход – это не выбор. Это нарушение предыдущей сцепки между Я и миром. Нарушение, которое всегда вызывает движение.
Теперь представьте: каждый круг – это уровень. Слой страха. Слой реакции. Слой разрушения. И первый из них – почти незаметный. Почти бытовой. Но именно с него всё начинается.
Первый круг – потеря рутины
Слово скучное, правда? Рутина. Что может быть интересного в рутине? Но если вы хоть раз теряли её – вы знаете, что это не про расписание. Это про безопасность. Психоанализ говорит: рутина – это форма, которую психика создаёт для удержания тревоги. Это не про лень. Не про избегание новизны. Это про структуру, которую Я использует, чтобы выдерживать реальность. Чтобы не утонуть в её неопределённости.
В изменениях исчезает сцепление. А вместе с ним – исчезает способность психики переживать время как непрерывность.
Когда уходит рутина – нарушается ощущение времени. День теряет границы. Ночь становится тревожной. Утро больше не начинается «так, как всегда». И это не просто про кофе. Это про то, что исчезает якорь. Может показаться: ну подумаешь, нет привычного завтрака. Или привычной дороги на работу. Или привычного человека рядом. Но психика ощущает это иначе. Как пустоту. Как разгерметизацию. Как тонкую, но ощутимую дыру. Это может быть увольнение. Развод. Болезнь. Или даже отпуск. Что-то «обычное», но в этом «обычном» исчезает структура повторения. И тогда приходит дрожь. Сначала лёгкая. А потом – нарастающая. Ты не знаешь, с чего начать день. Ты не можешь принять решение. Ты сидишь и крутишь один и тот же вопрос – не потому, что он важен, а потому, что это хотя бы какая-то форма.
Чем меньше рутины, тем больше внутренняя регрессия. Возвращение к тем уровням психики, где Я ещё не умеет собирать время в последовательность.
Я хочу здесь остановиться. Потому что этот момент очень важен. Когда исчезает рутина – мы не сразу замечаем, насколько это глубоко. Мы продолжаем ходить, есть, смотреть в телефон, отвечать на письма. Но внутри начинается сдвиг. Как будто опора – та, которая всегда была незаметной, – вдруг перестаёт держать. И ты уже не идёшь по жизни – тебя несёт. И вот здесь начинается второй круг. Он связан с первым напрямую. Потому что как только исчезает форма – возникает вопрос: а зачем всё это?
Второй круг – кризис смысла
Когда исчезает форма, следующей рушится сцепка с содержанием. Словно сначала у тебя отобрали карту, а потом – цель маршрута. Раньше было понятно: проснуться, поехать, ответить, сделать, поговорить, закрыть задачу, порадоваться результату. А теперь ты делаешь те же действия – но внутри пусто. Как будто всё, что раньше двигало тебя, растворилось.
Кризис смысла не приходит из усталости. Он приходит из утраты сцепления между Я и действием.
Ты уже не знаешь, зачем вставать. Не чувствуешь, для кого стараешься. Не понимаешь, где «награда». И даже любимые дела становятся серыми. Не потому, что они плохие. А потому, что внутри – как будто выключили свет. Психоанализ говорит: смысл – это не идея. Это аффективная сцепка между внутренним и внешним. Или, иначе говоря, смысл – это то, что даёт ощущение живости. Когда он уходит – всё становится механикой. И тело это чувствует первым.
Смысл – это мост между Я и жизнью. Он не даётся, а рождается в действии. Если исчезает смысл – исчезает мост. И Я остаётся в изоляции.
Здесь появляется то, что мы часто не умеем признавать: Пустота. Не та, которая «творческая». А та, которая холодная. Где любые усилия кажутся бессмысленными. Где не помогает ни спорт, ни планы, ни окружение. Где ты не хочешь умереть – но и жить как будто больше не получается. Именно на этом уровне часто возникает вина, стыд. Мы начинаем думать: раз я не справляюсь – значит, со мной что-то не так. Надо просто собраться, войти в ресурс, сделать чек-лист, выйти из зоны комфорта… – но это не работает. Потому что дело не в мотивации. А в том, что оборвана жила. Это и есть второй круг – слой, в котором психика больше не чувствует смысла и теряет энергию. Где всё кажется бессмысленным – даже то, что раньше зажигало. Одна участница моей группы как-то сказала: «Я больше не понимаю, зачем я даже думаю. Всё, что раньше вызывало интерес, теперь вызывает усталость». И это не депрессия – это потеря сцепки. И здесь начинается третий круг. Пока есть смысл – даже в одиночестве можно держаться. Но когда он исчезает – обнажается то, что раньше удерживалось связями. И следующий слой – это потеря социальной интеграции.
Третий круг – потеря социальной интеграции
Когда исчезает смысл – человек перестаёт быть частью чего-то. Даже если формально всё осталось как было: семья, работа, друзья, коллектив, язык. Что-то всё равно уходит. Связь. Не просто контакт. А вот та тонкая, неочевидная нить – ощущение, что ты внутри. Что ты с кем-то. Что тебя видят, чувствуют, держат в уме.
Ощущение принадлежности – это не факт, а внутреннее переживание «меня видят как часть». Когда оно исчезает, возникает разрыв между Я и Другим.
Ты можешь разговаривать, переписываться, даже смеяться. Но внутри появляется щель. Как будто никто больше не знает, что с тобой. Как будто тебя обогнали, и ты осталась на обочине. И чем больше ты это чувствуешь – тем сильнее отдаляешься. Психоанализ говорит о разрушении символического порядка. Когда символы больше не работают. Когда «семья» не чувствуется как семья. Когда «друзья» звучит как слово из учебника. Когда язык, на котором ты говоришь, – как будто уже не твой.
Интеграция – это не вопрос включённости, а вопрос распознавания себя в другом. Когда это исчезает – начинается опыт социальной пустоты.
В этом месте начинается одиночество не физическое – а онтологическое. Ты как бы есть, но тебя больше не считывают. Ты как будто остаёшься без отражения. Без подтверждения. Без включённости. И здесь легко впасть в агрессию. Начать обвинять. Отдаляться. Провоцировать. Это естественно. Потому что психика ищет способ вернуть связь. Но, как правило, это только усиливает разрыв. Ты можешь сказать: «Ты меня не понимаешь», «Я чувствую себя чужим», «Мы больше не на одной волне», – и это будет правда. Но за этими словами – не упрёк. А крик. «Пожалуйста, найди меня. Пожалуйста, подтверди, что я ещё есть для тебя. Пожалуйста, скажи, что я всё ещё часть». Это один из самых болезненных уровней. Потому что здесь уязвимость максимальна. Ты ещё не в панике. Но уже не в контакте. Ты видишь других – но они как будто сквозь стекло. Ты слышишь голос – но не чувствуешь смысла. Ты не знаешь, как объяснить, что тебя внутри нет.
Люди не теряют друг друга, они теряют узнавание. И именно это делает их незаметными друг для друга.
В практике это часто звучит как: «Он меня не слышит», «Я не могу ему объяснить», «Я не знаю, как быть с ними». И за этим не конфликт, а провал. Провал в идентичности. В связанности. В принадлежности. А дальше – следующий круг. Когда ты больше не чувствуешь себя частью, возникает вопрос: а справлюсь ли я один? А выживу ли? И это уже не про символическое. Это – про базовое. Мы приближаемся к самому телесному и уязвимому уровню – кругу экзистенциальных страхов. Здесь психика уже не задаёт вопросов про смысл и принадлежность – здесь она просто хочет выжить.
Четвёртый круг – экзистенциальные страхи
Ты уже не ждёшь, что кто-то поймёт. Ты не думаешь о смысле. Ты просто сидишь и чувствуешь, как внутри всё сжимается. Как будто у тебя убрали воздух. Как будто твой мир – не метафора, а помещение без окон. И ты не можешь оттуда выйти. Этот уровень – про тело. Про еду, жильё, деньги, работу, функцию, безопасность. И даже если всё это у тебя есть – психика может не распознать. Потому что безопасность – не факт, а переживание.
Экзистенциальные страхи появляются не тогда, когда исчезает «объективное», а тогда, когда исчезает уверенность в том, что Я справится.
Психоанализ называет это утратой Я-функций – когда психика перестаёт верить в свою способность управлять, выдерживать, удерживать. Это может выглядеть как тревожность, паника, истощение, отказ от действия, потеря ориентации во времени и пространстве. Ты вроде бы стоишь в очереди за кофе – а внутри дрожишь, как будто сейчас кончится свет и ты провалишься. Ты открываешь счёт – и не видишь цифры. Ты получаешь письмо – и не можешь его прочитать.
Ты чувствуешь, что любой шаг требует ресурсов, которых у тебя больше нет. Это не про слабость. Это про регрессию к тем слоям, где безопасность зависит от другого. Где без другого – не выжить. И если рядом никого нет, или он не замечает, или сам в панике – психика остаётся одна. Оголённая. Без возможности действовать.
Когда исчезает символическая сцепка, реальность становится сырой. И тогда даже простые задачи ощущаются как невозможные.
Многие здесь впервые сталкиваются с ощущением: я не справляюсь. Не как метафора – а буквально. Ты не можешь выбрать маршрут. Не можешь ответить на письмо. Не можешь открыть банковское приложение. Потому что это значит признать: мир существует, а ты – нет. И если рядом кто-то говорит: «Соберись, это просто стресс», – ты хочешь закричать – но даже на это нет сил. Потому что это не стресс. Это – крах. Именно здесь часто рождается фантазия: а если всё закончить? Не потому, что хочется умереть. А потому, что не хочется больше бороться за возможность просто быть.
Экзистенциальный страх всегда связан с идеей неадекватности. Как будто Я не заслуживает права быть.
И ещё: на этом уровне уходит взрослость. Психика регрессирует к детскому ощущению: я не знаю, как жить. Я не могу быть один. Я не умею справляться. И если идти дальше – за этим кругом остаётся только один. Тот, о котором мы почти не говорим. Тот, который молчит, но управляет всей спиралью. Пятый круг. Страх смерти.
Пятый круг – страх смерти
Он не всегда говорит вслух. Чаще – он дышит рядом. Как тень. Как сжатие. Как внутренняя дрожь, которую ты не можешь объяснить. Он не обнимает – он вычерчивает границу. И в то же время он отнимает саму возможность границ.
Смерть в переходах – это не событие, а отсутствие. Это исчезновение сцепки между Я и жизнью.
Этот страх необязательно приходит как ужас. Иногда он – как усталость. Как равнодушие. Как ощущение, что всё, что ты делаешь, уже не имеет значения. Что любые усилия бессмысленны. Что всё – поздно. Психоанализ описывает это как нарушение оболочки Я – когда психика больше не ощущает себя живой. Не потому, что происходит что-то страшное. А потому, что исчезла сцепка с самим фактом существования.
Центр спирали – это не паника. Это отсутствие желания. Это место, где Я перестаёт стремиться.
Ты можешь вставать. Работать. Общаться. Но внутри – пусто. Не страшно. Не больно. Не остро. А пусто. Как будто выключили внутренний свет. Это не смерть тела. Это – утрата психической живости. Ощущение, что если я исчезну – никто не заметит. Что если я перестану говорить, писать, появляться – ничего не изменится. Что моё присутствие – не имеет веса. Моё присутствие и моё отсутствие равны. Это страшно для психики. Но именно потому мы туда и не смотрим. Мы рационализируем, отвлекаемся, делаем, планируем, спасаем, организуем. Но где-то глубоко внутри мы знаем: мы держим этот страх как свёрток в груди. И он никуда не уходит.
Страх смерти активируется не при угрозе. А при исчезновении сцепки. Когда больше нечем быть.
В терапии это звучит тихо. Очень тихо. Иногда просто: «Я не хочу больше ничего», «Я не знаю, кто я», «Я будто стал меньше». И здесь нет простых слов. Потому что всё, что можно сказать, разрушается под собственной тяжестью. Но именно здесь начинается движение обратно. Потому что в самой тишине – уже зачаток жизни. Если мы можем быть рядом с этим страхом – не интерпретируя, не спасая, не убегая, – то начинается возможность восстановления связи с собой.
Мы прошли с вами по всем пяти кругам. От рутины – к смерти. От формы – к пустоте. От действия – к бездействию. И теперь, может быть, стоит сделать шаг в другую сторону. Обратно. Я задам один вопрос. Но если вы услышите его изнутри – возможно, он начнёт движение: Что оживляет вас? И вот здесь – в самой тишине, где нет больше вопросов, нет больше других и даже Я становится неочевидным, – начинает проявляться нечто новое. Не сразу. Не ярко. Иногда – просто как мысль: я всё ещё здесь. Иногда это чашка чая, которую вдруг хочется налить. Иногда – мысль о человеке, которому можно написать. Иногда – лёгкое шевеление в теле: будто оно просыпается изнутри, медленно. Без планов. Без слов. Психоанализ говорит:
Возвращение начинается не с действия, а с возможности снова переживать себя как часть. Часть времени. Часть жизни. Часть чего-то.
Именно поэтому не нужно спешить «выбираться». Не нужно «вставать на рельсы» или «возвращаться в строй». Нужно просто признать: да, я прошёл по этим кругам. И где-то на этом маршруте – я всё ещё есть.
Страх перед неизвестным – это форма психической чувствительности. Не симптом, а способ быть в переходе.
Я не знаю, где вы сейчас. На каком круге. На каком уровне. В какой тишине. Но если вы всё это услышали – вы уже не одни. И пожалуй, есть ещё кое-что важное, что нужно сказать в конце. Психоанализ всегда напоминает: любой страх – это не просто про то, чего мы боимся. А про то, в чём мы на самом деле нуждаемся.
Страх – это не сигнал угрозы, а сигнал потребности. Не то, от чего убегать, а то, через что можно узнать, где нам больно и где нужно быть с собой по-настоящему.
Если мы боимся потерять рутину – возможно, мы нуждаемся в форме, которая нас держит. Если исчезает смысл – значит, психика просит восстановить контакт с жизнью, а не просто ответ «зачем». Если нас охватывает одиночество – это зов на связь. Если мы чувствуем, что не справимся, – это крик о том, как сильно мы хотим быть защищёнными. Если мы встречаемся со страхом смерти – это не про желание исчезнуть. Это про желание наконец быть замеченным и живым. Это не о том, что всё рушится и с этим надо срочно что-то делать. А о том, насколько важен каждый из этих уровней. Насколько ценны даже те состояния, которые мы привыкли называть «темой для проработки», «падением», «дном». Они – не ошибка. Они – пространства, где можно услышать, чего мы на самом деле хотим.
Если вернуться к тому самому водоёму. К тому моменту, когда камень падает в центр, когда вода дрожит, а круги начинают расходиться, – можно увидеть другое: что вся эта воронка – не про разрушение, а про движение к ядру. К тому месту, где ты скукожен, сжат, почти исчез. Но всё ещё есть. Жив. Чувствуешь. И если там, в самом центре, где ты почти не можешь дышать, ты сможешь просто быть – без задачи выйти, победить, выбраться, – то, возможно, именно это и будет началом возвращения.

