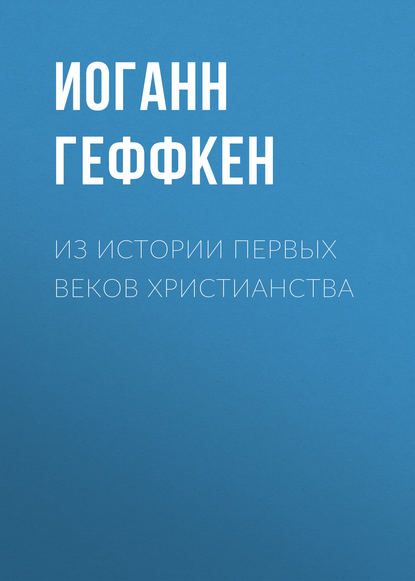 Полная версия
Полная версияИз истории первых веков христианства
Этим был сделав дальнейший шаг вперед. В одно и то же время Ветхий Завет был переведен на греческий языв, и евреи ознакомились с вавилонской сивиллой. Какова же была их радость, когда они узнали, что сивилла на греческом языке говорит о Божием гневе, о спасении праведников, и сооружении башни. Они тотчас же принялись за обработку книг, и потребовались лишь небольшие поправки, чтобы заставить сивиллу говорить уже не по Берозу, а согласно библии. Таким образом создалась еврейская поэзия сивилл. Как уже сказано выше, от произведений языческих сивилл до нас дошли лишь небольшие отрывки; еврейских и христианских стихотворений этого рода сохранилось напротив, очень много. Нельзя сказать, чтоб эта литература могла доставить художественное наслаждение, но тем не менее интерес она представляет большой. Правда, внешняя поэтическая и стилистическая форма этих песен никуда не годится и с течением времени становится заметно хуже, но зато внутреннее настроение, которое мы в них находим, представляет для нас известную ценность. Целью этих стихов является укрепить верующих в их вере и показать язычникам, какие силы таились в иудействе. Люди с изумлением читали, что Бог возвещал о своих грядущих делах через язычницу, и это чудесное возвещение побуждало их к подражанию. И вот обратились также к древней эритрейской сивилле, слили ее воедино с вавилонской и в получившуюся таким образом новую книгу внесли еще больше пророчеств. Теперь сивилла предсказывала и владычество Соломона, говорила и о Моисее, о будущем возникновении Ассирии:
Но когда же народ, потомок двенадцати братьев,Бросив страну фараонов, искать пойдет землю иную,Днем указывать путь ему будет облако в небе,Ночью же огненный столп освещать ему будет дорогу.В день тот даст им вождем Моисея, великого мужа,Найден, что был в тростниках, спасенный дочерью царской.………………………………………………..………….Ты также вынужден будешь,Храм свой великий оставив, покинуть священную землю.В плен отведенный к Ассуру, увидишь своих ты там женщин,Также и малых детей в услужении вражеским людям.Собственной мощи лишенный ты будешь рассеян по свету,Страны все и моря населеннными будут тобою…Вполне правильно указывала сивилла, что во всех городах Азии и Африки находились иудейские общины. Тем более было ей поводов поддерживать евреев в их поклонении единому Богу и побуждать их воздерживаться от идолопоклонства, которое принес с собою ассирийский плен, ибо только тогда Бог будет милостив в своему народу:
Но наконец почетом тебя одарит Всемогущий,И судьба тебя ожидает благая. ОстаньсяВерен тогда ты святому закону могучего Бога,Вставши с колен во весь рост, после стольких веков угнетенья!И тогда Бог пошлет тебе с неба царя, и царь тотСуд совершит над людьми во славе и блеске.Род же царя не погибнет вовек и господствовать будетОн над людьми и храм восстановит Господний.………………………………………………..Таким образом, в то время как евреи открывали изречения своих древних пророков в греческих книгах, эллины слышали проповедь израильской мудрости из уст своих единоплеменников, и это представляло двойную сильнейшую пропаганду. Однако, до сих пор это все еще не сознательный обман, не религиозное надувательство. Книга, подтверждавшая древнейшее иудейское предание, возбуждала фантазию евреев, а над вопросом о том, в праве ли они заменять древние пророчества новыми, они долго не задумывались. Ибо религиозное настроение в бесконечном множестве случаев представляло собою лишь опьянение чувства, упоение фантазии. Эпоха II в. до Р. Хр. в Иудее отличалась сильным подъемом; появилась книга Даниила, за ней последовали новый апокалипсисы. Но удивительно, что наряду с пророческими книгами древнеизраильского характера выступали в новых формах также и греческие пророчества.
В имеющемся у нас сборнике, насчитывающем двенадцать книг, иудейские прорицания постоянно прерываются греческими. Значительное число греческих текстов настолько испорчено, что их, вероятно, никогда не удастся восстановить. Евреи, вероятно, сами не понимали их, а просто переписывали чисто механически, небрежно. Впрочем, местами они считали нужным придать греческому оракулу верную окраску посредством какого-нибудь морализирующего прибавления. Выше мы видели, что эллинская сивилла называла поэмы Гомера плагиатом, составленным из её собственных изречений. Этот же взгляд перенимает и еврейская сивилла, но делает при этом еще следующее обличительное добавление:
Ибо сначала раскроет он то, что написано мною,Сам же приступит затем к описанию воинов храбрых:Гектора, сына Приама, Ахилла, Пелеева сына,И остальных мужей, занимавшихся делом военным;В помощь же им богов заставит он действовать, будтоБоги умнее людей, а не те ж безтолковые люди…Но внимание обращается не только на одно прошлое, главную роль в этих произведениях играет, разумеется, настоящее. С особенной любовью при этом одно время обращались к Риму. Рим уничтожил власть злого царя Антиоха Сирийского, к которому сивилла питала такую, же злобу, как и пророк Даниил. Подобно тому, как в первой книге Маккавеев сказано о римлянах: «Иуда услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны, и благосклонно принимают всех, обращающихся к ним, и кто ни приходил к ним. со всеми заключали они дружбу…», так же и иудейская сивилла поет о римлянах:
После ж того государства иного возникнет начало.В блеске, многоплеменное встанет на западном море;Множество царств покорит оно, много разрушит,Страх поселит в сердца земных всех царей и трепет…Не долго, однако, держалась добрая слава Рима. Скоро уже сивилла стала питать глубокое отвращение к своему былому избавителю; только что приведенные стихи были переделаны, в них уже делалось предсказание о грядущем падении мирового города.
Главной темой сивилл остается, как и в апокалипсисах, с которым они имеют мною общего, ожидание близкого конца мира. С глубоким чувством изображает сивилла мессианскую эпоху, эпоху ничем ненарушаемого блаженства. Споры и раздоры прекращаются, мир, справедливость, любовь и взаимная верность приводят к господству всеобщего блага. Дикие звери становятся кроткими и делаются слугами человека; в природе царствует небывалое плодородие. Язычники приходят к познанию истинного Бога, устраивают свою жизнь согласно его заповедям и совершают паломничества в его храм. Так у еврейской сивиллы мы находим следующее, относящееся к Иерусалиму, место, заимствованное у пророка Исайи (XI. 6 и сл.):
Радуйся, дева невинная, и торжеством преисполнись!Небо и землю создавший навеки в тебе поселится.………………………………………………..Волки тогда будут жить в горах с ягнятами вместе;Мирно травою питаясь, пастись будут барсы с козламиИ медведицы вместе с коровами в пастбище общем;Львы, кровожадные ныне, тогда, как быки, соломойБудут питаться, ребенку к себе подходить позволяя.Бог в то время зверей всех и гадов любовью наполнит.Малые дети тогда будут спать с ядовитой змеею,Ибо от зла охранять их будет десница Господня.Народ, чувствующий усталость, культура, вступившая в старческий возраст, нередко ощущают потребность в скорейшем наступлении золотого века, всеобщего мира между людьми и в природе. В таком чувстве глубокой потребности в спасителе, в мессии во второй половине I в. до Р. Хр. сходятся евреи и язычники. Израиль уверен, что он достигнет своей цели и получит награду; он жил согласно заповедям Божиим, поэтому мессия должен придти и снова сделать свой народ первым в мире. Греки и римляне, под влиянием все возрастающих гражданских войн, обращают свои взоры назад к былому золотому веку и с нетерпением ждут его возвращения. Пусть эпикуреец, смотрящий на вещи, с рассудительной трезвостью, смеется над утопией золотого века, считает возвращение его курьезной фантазией, – стоик смотрит на дело иначе. Он ожидает возвращения былой жизни; когда придет конец великому мировому году, тогда наступит золотой век. Идеи стоиков одерживают к концу этой эпохи победу. В Риме к ним примыкает немало благородных умов; утомленные беспрерывными войнами они рисуют себе наступление золотого века. Лучшее, наиболее художественное изображение его мы находим в знаменитой четвертой эклоге Виргилия.
В борьбе за мировое владычество наступил перерыв. В 40-м году до Р. Хр. Антоний вновь вступил в союз с Октавианом по договору в Брундизии. По италийскому миру пронесся вздох облегчения. Подумывали уже о новых вековых празднествах, устройство которых имел в виду еще Юлий Цезарь. И вот в такое-той исполненное самых лучших ожиданий время у друга Виргилия, консула Азиния Полиона, родился сын. С этил ребенком, появившимся на свет в эту чреватую событиями эпоху, Виргилий и связывает свои предсказания будущего. Он начинает с сивиллы: «Уже наступило последнее время кумейских песен». – В ученых кругах Рима в то время сильно интересовались поэзией сивилл. Великий римский антикварий Варрон, по-видимому, первый обратил на них общее внимание, Цицерон также говорит о них, указывая между прочим, насколько мало именно искусственная форма акростиха этих изречений свидетельствует о сверхъественном внушении. Характерной чертой этой поэзии было деление истории мира на десять поколений, при чем в десятом поколении должны были исполниться все пророчества. Из сивиллиных ожиданий и стоического учения ученый поэт создал собственные предсказания. После железного века, говорит он, произойдет переворот, и вновь наступит век золотой. Древние герои снова вернутся на землю и будут жить среди людей, добродетели отцов возобновятся; ребенок будет свидетелем всего этого. Он увидит возвращение золотого века; земля усыплет путь ребенка цветами, возы будут сами возвращаться домой с переполненным молоком выменем, лев и ягненок будут жить вместе, змей больше не будет, все ядовитое исчезнет. В этом же духе он и далее рисует картину золотого века.
Нельзя отрицать известного внешнего сходства между иудейской сивиллой и римским поэтом. Сходство это, однако, только кажущееся; в произведении Виргилия содержится слишком много чисто языческих или стоических мотивов, а изображения блаженных мирных времен, так же как, напр., представления об адских муках, встречаются у самых различных народов, так что говорить здесь о заимствовании не приходится. Впрочем, христиане были об этом иного мнения, им, с Лактанцием во главе, принадлежит неоспоримая заслуга совершенно ложного толкования четвертой эклоги Виргилия: указывая на сходство этого стихотворения с иудейской сивиллой, они говорили, что в нем заключается пророчество о пришествии спасителя. Это было лишь прямым следствием неверного взгляда на самое сивиллу. Язычница предсказала великие деяния Бога, единого, от века сущего владыки неба и земли: по воле Божией слепые очи её на мгновение прозрели. Anima candida Виргилия, казалось, также была освещена лучем божественной мудрости, и величайший римский поэт подвергся таким образом своего рода канонизации.
Сивиллу ожидали, однако, и еще новые почести. Прежде всего, Виргилий еще раз прибег в ней в своей Энеиде: он заставляет обитательницу кумейской пещеры сопровождать благочестивого героя своей поэмы в подземное царство Плутона. Август также воспользовался помощью пророчицы. Когда в 17 году он приступил к устройству вековых игр, он поставил их в связь с одним древним сивиллиным изречением, подвергнутым некоторому перетолкованию. К этом изречении была изложена вся программа празднества. Гимн был написан Горацием, в нем он покорно говорит об угрозах сивиллиных стихов и почтительно вспоминает о произведениях своего умершего современника, Виргилия, об Энеиде и четвертой эклоге.
Вернемся, однако, к иудейской поэзии сивилл, которой в скором времени суждено было превратиться в христианскую. Выше мы уже видели, что, чем сильнее налегала длань Рима на Иудею, тем ожесточеннее выражалась ненависть к мировому городу в этой народной поэзии. Сивилла все с большей злобой относится к цезарям, особенно к Нерону, все мрачнее становятся изображения конца мира, а разрушителю святого города Иерусалима, Титу, с ненавистью талмуда приписывается самый ужасный конец. В пылу страсти уже нарушается внешняя форма пророчества, еврейский патриот говорит иногда и о прошлых временах, находя там всевозможные тенденциозные истории. Однако, и этому приходит конец; с течением времени и иудейская сивилла подчиняется всеобщему рабству и, в конце концов, даже о настроенных враждебно к евреям императорах говорит с верноподданнической покорностью. Тогда, около середины II века по Р. Хр., выступает со своими песнями христианская сивилла. Ибо, наряду с другими родами литературы, христиане, конечно, переняли и этот. Уже в одном из древнейших христианских сочинений, так назыв. «Гермасском Пастыре» упоминается имя сивиллы. Конечно, для новых произведений требуются особый поводы, и здесь мотивами является всеобщее возмущение против Рима. Между тем как апокалипсис Иоанна называет грешную империю Вавилоном, христианская сивилла, доведенная до дикой ненависти преследованиями верующих, говорит более откровенно:
Некогда, Рим горделивый, постигнет тебя удар неба.Склонишь тогда ты главу за много столетий впервые;Будешь разрушен, и пламя тебя поглотит совершенно.Все богатства твои исчезнут, развеяны ветром,Место, где были дворцы, населять станут дикие звери.Где те боги будут, – из золота, камня иль меди, –Что спасли бы тебя в этот день? Где решеньяБудут сената?……………………………………………………………………………………..Ибо померкнет тогда слава твоих легионов,Где же твоя будет мощь? Какая в союзе с тобоюБудет страна?…Подробнее всего христианские сивиллы описывают, конечно, конец мира и мучения грешников в аду. В последнем отношении они близко подходят в родственным их апокалипсисам. Подобно последним, сивиллы говорят о гласе трубном, который раздается с неба в день страшного гуда и пронесется над нечестием грешников и страданиями мира. А чтобы не могли, – как это неоднократно делали греки, – ссылаться на то, что эти изречения сивиллы подделаны, авторы придавали как раз тем стихам, в которых шла речь о последнем суде, форму акростихов, думая этим придать им печать подлинности. Далее очень часто повторяются предсказания о явлении и жизни Христа. Рассказ о благовещении и о рождении Христа отличается известной прелестью. «Она же почувствовала смущение и изумление, когда услышала эти слова, и трепет наполнил ей сердце; все мысли её смешались, сердце сильно забилось при этом необычайном известии. Но скоро радость сменила страх. стыдливая улыбка появилась на её устах, щеки покрылись краской, и прежняя смелость вернулась в ней. Слово же влетело в её тело, с течением времени сделалось плотью и, наполняясь жизнью в утробе матери, приняло образ человека, и так от девы родился мальчик: людям это, конечно, кажется великим чудом, для Бога же Отца и Бога Сына ничто не составляет чуда. И когда дитя появилось на свет, земля радостно приветствовала его, небесный престол наполнился ликованием и возрадовалась вселенная». – С особенной настойчивостью сивилла восстает также против язычников и их идолопоклонства. В этом отношении она представляет верный сколое христианских апологетов, мысли которых у неё постоянно встречаются. «Сам Бог», восклицает она, «установил образ и вид смертного, создал зверей, гадов и птиц. Вы же не чтите и не боитесь Бога, но блуждаете без всякой цели, поклоняетесь змеям, приносите жертвы кошкам и немым идолам, каменным изваяниям людей. И в безбожных капищах сидите вы перед дверьми и не боитесь истинного Бога, который все вспомнит, и ликуете перед нечестивыми камнями, забывая о суде»… Почти социалистический характер придает, далее, сивилла презрительному отношению христиан к жизни среди имущих: «Начало всех бед составляют корысть и неразумие. Господство в мире будет принадлежать жажде золота и серебра, ибо ничего более возвышенного не избрал себе человек, ни блеска солнца, ни неба, ни моря, ни широкой земли, из которой все происходит, ни Бога, создателя всего сущего, ни верности, ни благочестия. Эта жажда – источник безбожия и руководительница порока, вызывающая воины и изгоняющая мир, возбуждающая ненависть детей в родителям и родителей в детям. И ценность брака будет определяться лишь золотом. Земля будет разграничена, стража будет приставлена в морям, которые будут поделены между всеми, владеющими золотом: желая навеки овладеть кормилицей-землей, они разорят бедных и станут угнетать их в чванливости своей. И если бы беспредельная земля не была так далеко от звездного неба, то и свет не светил бы равно для всех людей, но продавался бы на золото лишь богатым, для бедных же Бог должен был бы создать иное существование. К христианам сивилла также обращается с увещаниями; нравственные послания в пастве, находившиеся тогда в большом употреблении, служили ей образцом, и даже в тех случаях, когда пророчица указывает на добрые нравы христиан, то это вовсе не является самовосхвалением: она делает это лишь с целью укрепить христиан в добре. „Мы не должны“, говорится в одной из этих песен, „приближаться в внутренности храмов, приносить жертвы изображениям богов, давать им клятвенные обеты, и украшать их благовонными цветами, светильниками или бесполезными дарами, или возжигать благовония на пылающих алтарях; мы не должны посылать кровь жертвенных ягнят для возлияния при жертвоприношениях с целью избавиться от земного наказания; мы не должны осквернять сияние эфира дымом плотоядных костров и отвратительным запахом горелого жира; с радостным чувством, с веселым сердцем, воздавая всем любовь и щедро оделяя бедных, воспевая псалмы и другие священные песни, будем мы славить Тебя, Вечного, Всеблагого, Отца всего сущаго“»…
Все это носит еще до известной степени первобытный характер. Авторы сивиллинных изречений наивно пишут совершенно не сознавая, что ведь они в сущности совершают подлог. Но когда сивилла начинает уже не поносить громко и страстно язычников, а вступать с ними в богословский диспут, то это свидетельствует о черте, совершенно ей не свойственной. Она аргументирует, напр., следующим образом:
Если, однако, исчезнет все сущее в мире, тогда ужБог не появится вновь из чресл жены и мужчины,Будет же в мире один, величайший и высший над всеми.……………………………………………….Если же Боги плодятся, бессмертны навек оставаясь,Право тогда они многочисленней были-б, чем люди,И на земле для смертных нигде не осталось бы места.С подобной аргументации и начинается сознательный христианский обман. Христианству, находившемуся в тисках между по меньшей мере неблагосклонным отношением к нему со стороны императоров и нападками греческой литературы, никакое средство для отражения врагов не казалось плохим. В эту эпоху одна подделка следует за другой; подобно тому, как сивилл заставляли подтверждать слова библии, так теперь возникают всякого рода поддельные произведения, в которых великие трагики древней Греции говорят о приближающейся гибели мира или проповедуют философские учения в иудейском стиле. Правда, нельзя упрекать тех, кто пользовался этой литературой. Они так уверены в святости своего дела, что у них не является даже ни малейшего сомнения в допустимости этих мелких средств. Так как христиане, как ранее евреи, вполне убеждены, что греки всю свою мудрость черпают из библии, то их ничуть не удивляет, что сивиллы и их подражатели говорят тоже, что и священное писание. Поэтому, насмешки некоторых эллинов над подобным отношением, остались в эту эпоху гласом вопиющего в пустыне. Ибо язычество во второй половине II века вовсе не отличалось равнодушием или отсутствием благочестия; напротив, весь мир был переполнен пророчествами и святыми надеждами. И языческая эритрейская сивилла, о которой уже почти забыли, снова оживает, когда интерес императоров обращается в ней, и осчастливленный город заставляет пророчицу в длинной эпиграмме выразить благодарность владыкам. Все вокруг кишело религиозными откровениями, снами, заклинаниями, волшебством, системами, философскими умозрениями. Здесь гностик бормочет свои темные изречения и теософические фантазии о мире и его глубочайшей сущности, там жрец Мифры ведет верующих в свою мистическую пещеру, или неоплатоник мечтательно подымает глаза к небу, стремясь душою в Богу, далее слышен резкий голос апологетов, еще далее Марк Аврелий, этот стоик на троне римских императоров, ищет и создает мир своей душе: вообще царит полный хаос мнений, благочестивых надежд и радостного знания. В этом массовом производстве религиозных идей многое смешивается и разлагается, контрасты соприкасаются; языческие воззрения внедряются в христианство, и, наоборот, язычники вводятся в заблуждение христианскими пророчествами. Когда христианство, в конце концов, одерживает победу, оно не забывает своих старых соратников: сивилла, высоко вознесенная защитниками христианской веры, вводится в новый храм христианской государственной церкви.
Ибо языческая сивилла, мать еврейской и христианской, теперь действительно превратилась, как это и говорило древнее сказание, в тихо шепчущий голос. Еще раз обращается к древним книгам Юлиан Отступник, готовясь в походу на восток, а после него они все более и более впадают в забвение, и, наконец, как гласило предание, Стилихон предает их огню. Вряд ли, впрочем, это и требовалось, ибо христианские сивиллы, лишь только прошел пыл борьбы за веру, весьма ревностно принимаются также и за светские дела, и в скором времени древнеязыческие и христианские изречения, по крайней мере по форме, перестают отличаться друг от друга. – Любопытная черта присуща этим светским оракулам. Политических деятелей, т. е. главным. образом, следовательно, императоров, они не называют по именам, а обозначают постоянно числом, греческий знав которого соответствует начальной букве имени, или позднее просто начальными буквами. Эта манера переходить затем глубоко в средние века, важнейшей сивиллой которых является так называемая тибуртинская.
После перенесения столицы из Рима, Константинополь сделался убежищем поэзии сивилл. Древнюю форму гекзаметров теперь заменяет проза. Но стиль, мировоззрение, изображения остаются те же. При постоянных нападениях на империю, сначала со стороны германских полчищ, затем со стороны славянских и восточных народов, вопросы о будущем постоянно остаются окруженными тем же страхом. Оракулы, которых в Константинополе называют «очами Даниила», предвещают многие беды, грозящие отдельным провинциям огромного государства, но в конце концов, говорят они, придет великий владыка, который принесет с собой освобождение, и пришествие которого будет означать наступление конца мира. До середины XV века, до самого завоевания Константинополя турками, в столице были такие прорицательницы, или сивиллы. Они же вызвали затем возникновение латинских сивилл Запада, напр., только что названную тибуртинскую; оттуда они, наконец, переходят и в Германию. Немецкия сивиллы предсказывают возвращение Фридриха Барбароссы, последнего императора, который повесит свой щит на сухую грушу и удовлетворит стремления своего народа. Так живет сивилла в умах людей, пророчица седой языческой старины превращается в христианскую святую in partibus, которая в стихах Томмазо ди Челано является вместе с Давидом свидетельницей гибели вселенной. – Но и это еще не все; мы также еще находимся под влиянием этого существа. Об этом свидетельствует, напр., знаменитое сказание Ленинского монастыря о Гогенцоллернах, которое представляет собою прямое продолжение сивилл.
* * *Странное царство фантазии представляют собою эти апокалипсисы и сивиллы, нечто вроде царства теней истории, в котором реальные исторические фигуры кажутся окруженными всякого рода призраками. Но в истории мира не всегда господствуют осязаемые силы здоровой жизни, редко правят им и светлые идеи, но также часто обнаруживается чудесное слияние призраков и предчувствий, а в эпохи общественного возбуждения они как бы сгущаются даже в дела, из теней выростают в конкретные фигуры. Насколько невелико поэтическое достоинство этих фикций, настолько же сильно их влияние, и огромна мощь их традиции. Предание, идущее от скалистого жилища сивиллы в Эритрее до песков Ленинского монастыря, нельзя игнорировать. Эти книги являются для вас свидетельством всего, что в глубинах народной души стремилось в свету, они повествуют нам о трепетных упованиях человека и связывают нас с теми тяжелыми временами, когда христианство должно было прибегать к их помощи.
III. Внешния гонения
Легенда. – Правовое положение. – Отношение к христианам при Нероне, Домициане и Траяне. – Марк Аврелий. – Мученичество. – Процесс Аполлония. – Положение христиан при позднейших императорах. – Последние гонения. – Победа христианства.
В южной части Рима, по ею сторону стены, расположена круглая церковь, называемая Сан-Стефано-Ротондо. В древности она представляла собою, по всей вероятности, здание рынка, впоследствии же превратилась в своего рода памятник всем христианским мученикам, погибшим в Риме. Куда бы мы ни обратили взоры в этой обширной церкви, повсюду мы увидим на стенах изображения страданий мучеников, самые стены кажутся насквозь пропитанными кровью, это настоящая Голгофа христианской веры, созданная фантазией древнего христианства, которая была одинаково неумеренна, как по части пыток мучеников, так и по части адских мук. Эти картины, эти изображения на стенах здания, созданного язычеством, кажутся как бы триумфом религии страдания над городом дела, над древним Римом. И так повсюду в Риме язычество перемешано с христианством. В амфитеатре Флавиев мы как бы воочию видим фигуры христиан, отданных в жертву диким зверям, в темнице у подножия Капитолия, по преданию, был заключен Петр, в церкви св. Цецилии в Трастевере лежит чудная фигура св. Цецилии с зияющей раной на девственной шее в той же позе, в какой в 1599 году, по преданию, её труп был найден в катакомбах. А самые катакомбы! Как много говорит история этих подземелий даже такому человеку, который, подобно автору этих строк, получал сведения о ней из уст иезуитов! Разве слово «мученик», сопровождающее там внизу на стенах имена стольких борцов за веру, не оставляет надолго следа в сердце? Слишком легкомыслен должен был бы быть тот человек, который, поднявшись из тьмы подземелий на свет, не унес бы с собой благоговейного чувства по отношению к величию истории, рассказанной ему этими гробами, образами и изречениями, – который не пришел бы к сознанию, что подземный Рим, Roma sotterranea, так же велик, как и вечный город, расположенный над ним.



