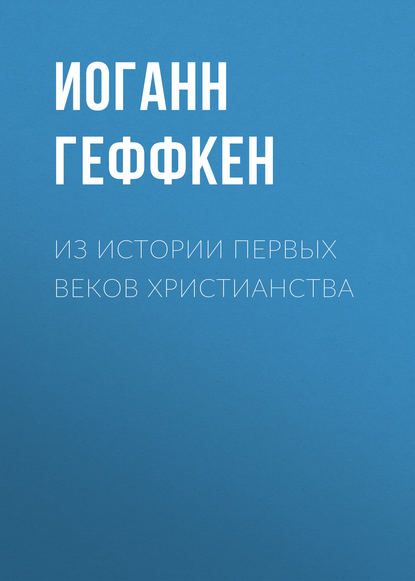 Полная версия
Полная версияИз истории первых веков христианства
Апокалипсис Иоанна написан, вероятно, в царствование Домициана, т. е. тогда, когда христианам впервые пришлось испытывать тяжелое давление империи. В более спокойные времена изображение конца вселенной снова отступает затем на задний план. Но все его черты моментально принимают самую яркую окраску, когда начинаются преследования. Ибо древнее христианство все еще не перестает видеть во всякой беде приближающийся конец. Фигура Нерона становится при этом все более и более бледной, но некоторые характерные черты все-таки еще сохраняются. Так другие сочинения этого рода из эпохи гонений говорят, что из-за пределов мира приближается огненный дракон матереубийца; демон опустошает весь мир, бесчисленные народы, евреи среди них, становятся его жертвой, древний Рим разрушен. Но Илия является, пророчествуя и творя чудеса; тогда Нерон созывает сенат и приказывает убить про рока. По прошествии трех дней Бог, однако, снова пробуждает его к жизни. Тем не менее, христиане изгоняются из Рима, террор продолжается 3½ года, затем наступает конец; ибо приходит настоящий антихрист, который кладет конец римскому государству, истощившему всех людей своими тяжелыми податями. Победитель появляется также и в Иудее, он творит знамения для того, чтобы совратить людей, но последние, в конце концов, открывают его тайные замыслы. Они взывают к Богу, и Господь, наконец, вмешивается. Он выпускает из плена десять колен, которые вели там жизнь, согласно закону, все преклоняется перед ними, так как с ними Бог, антихрист уничтожен, начинается суд. Солнце перестает светить, несется огненный поток, звезды падают с неба, все сгорает, стены городов рассыпаются в прах; наконец, Господь является в славе своей, и земля опять обновляется. Таким образом, здесь перед нами снова обнаруживается великая сила традиции, которая соединяет древнейшие мотивы с новыми представлениями.
Римское правительство с большой тревогой смотрело на этот возбужденный и возбуждающий оккультизм. Не только твердая вера мучеников, безтрепетно выступавших в цирках на съедение диким зверям, была опасна для него, в гораздо большей степени оно боялось этой мечты, этой переходившей из уст в уста, со страхом и трепетом, в виде тайного учения распространявшейся веры в скорый конец всех вещей, а следовательно, и конец римского государства, апокалиптического Вавилона. Во II веке по Р. Хр., как нам известно, чтение подобных сочинений было запрещено под страхом смертной казни. Каковы были последствия этого для христиан, мы узнаем подробнее при изложении истории гонений.
Однако, гонения эти с течением времени прекратились. Но раз возникшие в народном сознании картины сохранялись почти в полной силе. Хотя уже и перестали ожидать каждое мгновение наступления конца вселенной, но тем не менее сохранилось представление о том, что этот конец должен когда-нибудь заступить, что последняя борьба еще необходима. Творческая фантазия с каким то мрачным старанием не переставала прибавлять одну черту за другой в изображению антихриста. Он молод, тонконог, на голове его спереди имеется клок седых волос, брови его доходят до ушей, а ладони покрыты струпьями проказы. Если пристально смотреть на него, то он будет менять свой вид; он является то ребенком, то стариком, все черты его меняются, только приметы головы остаются без изменения.
Все эти чудесные истории из древности переходят в средние века и отчасти отражаются также на немецкой императорской легенде – в сказании о Киффгейзере. Мир все снова и снова содрогается перед антихристом, который принимает то ту, то другую форму. Ведь многие верующие люди еще в Наполеоне I хотели видеть воплощение антихриста. Это же в полной мере относится и к другим частям древней веры. Удивительно яркое представление о мощных звуках ангельских труб, о tuba mirum spargens sonam, o том времени, «когда раздастся последний глас трубный, который будет услышан во всех могилах», до сих пор еще не вполне исчезнувшее ожидание будущего тысячелетнего царства всеобщего мира перед наступлением страшного суда, – все это коренится в страшно возбужденной фантазии последних веков еврейской и первых веков христианской эры. К апокалиптическим представлениям относятся наконец, также изображения «того света» – ада и рая. Вполне естественно, что человеческая фантазия гораздо более яркими красками рисует состояние ада. чем небесное блаженство. На земле достаточно часто господствовали адские условия, на небесное же блаженство мы, жалкие смертные, можем лишь надеяться, но никогда не в состоянии представить себе его вполне пластически, так как для этого здесь на земле нет основных условий. Христианские представления об аде, о том месте, «где будет плач и скрежет зубовный», коренятся в существе еврейства и не имеют ничего общего с античными языческими воззрениями. В одном еврейском апокалипсисе «является ров мук, а напротив него место прохлады; видна геенна огненная, а на против неё рай блаженства». Тогда говорит Бог «народам, которые пробудились»: «Взгляните теперь и узнайте того, кого вы отрицали, кому вы не служили, чьих заповедей вы не исполняли! Взгляните туда и сюда: здесь блаженство и прохлада, там огонь и муки». Но христиане, по-видимому, дали особенно яркую окраску этим представлениям. Около 11 лет тому назад в одной египетской гробнице была открыта рукопись, содержащая так называемый апокалипсис Петра. Этот апокалипсис дает нам гораздо более полную картину представлений древних христиан об аде, чем все описания, уже имевшиеся ранее. Мы приведем из него некоторые выдержки. «И я предстал перед Господом и сказал: Кто эти? Он ответил мне: Это наши праведные братья, которых вы хотели видеть. И я сказал ему: А где же находятся все праведники, или каково то небо, которое служит жилищем для тех, которые несут на себе такой блеск? И Господь показал мне обширное пространство этого мира, которое от края до края блистало светом, и воздух там был пронизан солнечными лучами, и страна цвела неувядаемыми цветами и была наполнена благоуханиями и растениями, которые великолепно цветут и не блекнут и приносят благословенные плоди. Цветов было так много, что запах от них даже доносился оттуда к нам.
Жители того места были одеты в одежды лучезарных ангелов, и одежда их имела такой же вид, как и их страна, и ангелы были там, среди них. И равно было величие тех, кто там жил, и в один голос славили они Господа Бога, ликуя в том месте. И говорит Господь нам: Это место ваших первосвященников, людей, ведших праведную жизнь.
Но я увидел также и другое место, как раз напротив первого, оно было совершенно темно. И это было место наказания, и те, которые подвергались наказанию, и ангелы, которые наказывали, были одеты в темные одежды соответственно назначению того места.
И некоторые там были повешены за языки. Это были те, которые опорочили путь праведный, и огонь горел под ними и причинял им страдания. И было там большое озеро. наполненное горячим илом, в котором находились люди, извратившие правду, и ангелы истязали их. Но кроме того, там были еще женщины, которые были повешены за волосы, вверху над тем клокочущим илом. Это были те, которые нарушили брак, те же, которые совершили с ними это постыдное любодеяние, были повешены за ноги и опущены головою в тот ил, и они говорили: Мы не верили, что попадем в это место. – И увидел я убийц и их соучастников, брошенных в узкое место, кишевшее ядовитыми червями, которые кусали их; и они извивались в страшных мучениях. Черви же надвигались точно темные тучи. И души убитых стояли там и смотрели на мучения тех убийц и говорили: О Боже, праведен суд твой.
Близ того места увидел я другое узкое место, в которое стекали кровь и отбросы подвергавшихся наказанию и образовали там озеро, и там сидели женщины, погруженные в кровь по горло, а против них сидело множество детей, рожденных преждевременно, которые плакали. И от них исходили огненные лучи, ударявшие в лицо женщинам. Это были те, которые зачали вне брака и изгнали плод. И другие мужчины и женщины, охваченные по пояс пламенем, были брошены в темное место, и злые духи стегали их, и внутренности их пожирали черви. которые не успокаивались ни на мгновение. Это были те, который преследовали праведников и предавали их. И невдалеке от тех снова были женщины и мужчины, которые кусали себе губы и подвергались истязаниям, и раскаленное железо прикладывалось к их лицу. Это были те, которые порочили и хулили путь правды.
И как раз напротив этих были еще другие мужчины и женщины, которые кусали себе языки, и жгучий огонь наполнял их рты. Это были лжесвидетели. И в другом месте были кремни, острее мечей и копий, они были раскалены, и женщины и мужчины в виде грязных комьев извивались на них, испытывая страшные муки. Это были богачи и пользовавшиеся их богатством, которые не сжалились над сиротами и вдовами, а пренебрегли заповедью Божией. И в другом большом озере, наполненном гноем и кровью и клокочущим илом, стояли по колена мужчины и женщины. Это были ростовщики и взимавшие лихвенные проценты. Другие мужчины и женщины низвергались с страшной крутизны, и погонщики снова заставляли их взбираться наверх и вновь низвергали их оттуда, и так они не имели покоя от своих мук… 11 у этой крутизны было лесто, объятое жгучим пламенем, и там стояли мужчины, собственноручно делавшие идолов вместо Бога. И около тех были другие мужчины и женщины, которые держали в руках огненный прутья и были ими себя, не переставая… И еще невдалеке от тех были другие женщины и мужчины, которые горели на медленном огне и подвергались истязаниям и жарились. Это были те, которые оставили пути Господни».
Я прошу извинения за эту длинную цитату, полную такой жестокой фантазии. Но в ней, однако, очень много поучительного. Что небу уделяется слишком мало внимания, и вся сила воображения направляется на ад, об этом мы уже говорили ранее; гораздо важнее то. Что такие и подобные им отрывки существенно расширяют наши взгляды на описания этого рода. Перед нами невольно встают картины Дантова «Ада», со всеми его степенями грехов и различными наказаниями, невольно вспоминаются средневековые изображения мук грешников в аду.
Таким образом, от первых веков христианства до этих позднейших произведений тянется одна непрерывная традиция. Читая эти грубо-чувственные представления о муках отверженных и бесцветные описания райского блаженства, мы еще раз убеждаемся, насколько выше всего этого апокалипсис Иоанна. В нем, несмотря на близкия отношения к современной ему и более древней литературе, т. е. вопреки всей книжной мудрости, бесконечно больше силы и свежести, чем в параллельных ему явлениях. Он не копается в тонкостях различных вопросов, как это делает современная ему еврейская апокалиптика, он не изощряется в рафинированном изображении адских мук: он смело бросает вызов владычеству Рима, он клеймить великий Вавилон именем великой блудницы. Полный могучей фантазии, он в то же время проникнут чувством истины, христианства и какой-то восторженной надеждой на близкий конец мира. Недаром – хотя и после жестокой борьбы – Откровение было причислено к канону христианских книг; наше изображение юного христианства было бы отнюдь неполно, если бы мы не упомянули о нем, этом лучшем типе всех вообще апокалипсисов. Христианство, как мы уже замечали неоднократно, вовсе не шло по своему пути страданий, терпеливо вынося нападения и дикия преследования со стороны врагов; если бы это было так, то оно осталось бы простой силой, как многие другие. Нет, оно также бросало вызовы, или, вернее, даже первое бросало вызовы и нападали. И в этой борьбе слово принадлежало не только призванным, литературным представителям, какими были апологеты, но прежде всего энтузиазму только что рассмотренных нами произведений фантазии. Там, где уступал разум, где недоставало человеческой силы, там заклинались силы неба, беспощадные обитатели адских ущелий; мы не ошибемся, если назовем все это дышащее мрачной суровостью направление периодом «бури и натиска» христианства.
2. Сивиллы
В нашу эпоху развития железных дорог и других средств сообщения ничего уже не значит побывать в Италии. «Чудеса Рима» для многих перестали быть чудесами. Наша жизнь, стремясь более в ширину, чем погружаясь с глубину, старается возможно скорее овладеть всеми наиболее необходимыми знаниями; нередко, поэтому, можно встретить человека, который в общих чертах сумеет вам рассказать о сокровищах искусства какого-нибудь города, но чтоб рассказчик питал при этом индивидуальную, личную привязанность к отдельным явлениям, – это случается только с очень немногими, и как в нашей суетливой культурной жизни нередко для слова не находится подходящего образа, так здесь для образа не находится соответствующего слова. Конечно, многие, бывавшие в Сикстинской капелле, с изумлением рассматривали исполинские фигуры работы Микель Анджело, которые невольно привлекают в себе взоры посетителя и как бы заключают его в свои объятия. Каждый всматривался в знакомые изображения пророков: Иеремии, погруженного в глубокую задумчивость, Иезекииля, держащего полуразвернутый свиток, Иоила, Захарии, читающего или перелистывающего книгу, пишущего Даниила, Ионы, осеняемого тыквенной ветвью. Но что это за странные женщины, сидящие вместе с пророками, кто такие эти «сивиллы», дельфийская, персидская, эритрейская, кумейская и ливийская? Нам говорят, что это святые, или по крайней мере такие женщины, которых в католических странах окружают известным ореолом святости, пророчицы языческой эпохи. Бог, по древне-христианскому воззрению, вложил в них дар провидения своего плана спасения рода человеческого. С каким бы сомнением мы ни отнеслись к этим мистическим существам, все-таки в нашей душе останется известный след, и многие, глядя на эти изображения, наверное спрашивали себя, но что же, в сущности, означают эти сивиллы, почему легенда о них заставила Микель Анджело создать такие замечательные произведения. С этик вопросом мы вступаем в обширную, почти необозримую область; перед нами встает новая величественная традиция. Многим, конечно, приходилось уже мельком кое что слышать об этом, еще в школе мы читали о сивиллиных книгах древнего Рима, многим известен мрачный стих Томмазо ди Лелано: Dies irae, dies illa Solvet sacclum in favilla Teste David cum Sibylla (Страшный день суда, мир распадается в прах: так говорят Давид и Сивилла). Но какая тут связь, это для многих темно. Попробуем же снять покров с этой тайны, не грубой рукой обличителя, а бережно исследуя, стремясь познать правду о том, что в течение тысячелетий двигало человеком в его верованиях, надеждах, а также и в его опасениях.
В настоящее время в христианстве неоднократно разыскивают и находят воззрения и внешния формы греко-римского культа. Многое еще спорно, многое, по-видимому, уже твердо установлено, но в одном, по крайней мере, сейчас никто не сомневается, это в том, что еврейско-христианская поэзия так называемых сивилл представляет прямое продолжение греческой религиозной поэзии. Только неосведомленный человек может говорить теперь о веселых олимпийцах древних греков, ни один исторически мыслящий человек не встанет уже на ту точку зрения, которую проводил Шиллер в своих «Богам Греции». Мы знаем, что боги Гомера не были богами древней Греции, что эллины, «предоставленный самим себе и мрачному предчувствию», также создали таинственные страшные образы, что и им чудились привидения, которые витали близ могил и мест казней. Трижды свят дельфийский камень, вокруг которого только рационализм прошлых, пережитых времен создал иезуитскую коллегию хитрых жрецов, изрекавших здесь загадочные фразы. Здесь, в Дельфах, отвечают на вопросы всего мира, здесь центр религиозной жизни всей Эллады. Но, хотя мы здесь также слышали пророчества, тем не менее духа пророчества, – в том простом смысле, как мы это привыкли понимать, а не в том в каком слово это нынче употребляют некоторые филологи, – в Дельфах, да и вообще в Греции создано не было. Ибо пророк не дожидается, пока его спросят; во всякое время, наперекор окружающему его миру, изрекает он свои пророчества, полный той божественной силы, которая бессознательно для него самого, творит и действует в нем. Он не задумывается над тем, нравятся его пророчества или нет. Истинный дух пророчества перешел в греческий мир из Азии, из этой древней родивы всех религий, по-видимому, в ту эпоху, когда азиатская культура перебросила свои волны в Элладу. Еще в VIII в. до Р. Хр. женщины, названные не греческим (по крайней мере до сих пор еще не объясненным никакой греческой этимологией) именем сивилл, предсказывают в экстазе, тоном проповеди наступление в будущем тяжелых времен и говорят о таинственных, страшных предзнаменованиях. Первая сивилла имела свое местопребывание на ионической почве, в Эритрее. Там не так давно был найден её грот с эпиграммой, к которой мы еще вернемся, так как она относится к более позднему времени. От собственно античной поэзии сивилл до нас дошли, кроме этой эпиграммы, лишь небольшие отрывки; но, и они, наряду с указаниями некоторых писателей и в связи с позднейшей еврейской и христианской поэзией этого рода позволяют составить о ней вполне точное представление.
Мы уже ранее пытались, насколько это вообще возможно, дать приблизительную картину процесса возникновения пророчества в душе прорицателя. То же самое мы должны сказать и о существе боговдохновенных сивилл. Сивилла также переносит в своих песнях прошедшие, часто ею самою пережитые события в будущее, она также знает, что все, что она предсказывает, – бедствия народов, войны, повальные болезни, неурожая, что все это когда-нибудь совершится. Она прекрасно сознает, что здесь на земле и особенно в её собственном отечестве, на родине философии, в Ионии, ей не верят. Все свои предсказания до самого позднего времени она заканчивает одними и теми же словами: вы все считаете меня сумасшедшей, но все мои слова когда-нибудь оправдаются.
Правда, нельзя ставить сивилл в один ряд с величественными образами израильских пророков. Сивилла не есть конкретная личность. Первая пророчица сменяется другими, которые выступают перед толпой с новыми изречениями. Так возникает одна песня за другой; – там, где останавливается одна пророчица, подхватывает другая, и так как каждая из них чувствует себя лишь слугой одной великой пророческой идеи и постоянно продолжает лишь дело первой, то, наконец, в течение веков образуется предание о древней предсказательнице, которой с самого начала было известно то, что впоследствии действительно свершилось. Таким образом и древнее сказание о падении Илиона не могло не быть приведено в эту же связь, и в конце концов сивилла, преисполненная пророческой гордости, в сознании своего священного призвания, объявила, что её изречения гораздо старше песен Гомера. До вас дошли стихи, в которых она утверждает, что «хиосский подделыватель» обокрал ее; но все-таки, и она согласна сохранить за ним славу недурного писателя.
Таким образом, сивилла в некоторых отношениях напоминает апокалипсисы. У неё также один слой ложится на другой; наряду с древними предсказаниями стоять новейшие изречения. Судьба обеих отраслей литературы также одинакова. Все предсказания, не осуществившиеся до сих пор, с неслыханным терпением переносятся верующей толпой на будущие времена и получают иное толкование.
Сивилла вела широкую пропаганду. В упомянутой выше эритрейской эпиграмме она так выражается по этому поводу: «я прошла по всей земле». При этом она вступила в конфликт с дельфийским оракулом. Об этом свидетельствует она сама и рассказывает, что когда в Дельфах она гневно пела своему брату Аполлону, этот завистливый бог пустил в нее свою смертоносную стрелу. Это означает борьбу между двумя духовными силами. Об этом же повествует другой, более красивый миф. Сивилла по праву пользовалась славой Кассандры, этой предсказательницы несчастий, постоянно подвергавшейся жестоким насмешкам. Впервые Кассандра появляется в этой неблагодарной роли у Эсхила; она отвергла любовь Аполлона, последний наложил на нее проклятие, благодаря которому ни одно её предсказание не находило веры у людей. Конфликт, следовательно, произошел и здесь; Кассандра – это сивилла, грозные предсказания которой наталкиваются на полное недоверие. Еще древность чувствовала связь между обоими этими образами.
Действительно, сивилла – это предсказательница несчастий. Дошедшие до нас немногочисленные отрывки этой поэзии и особенно сохранившиеся иудейско-христианские книги, о которых у нас будет речь позже, постоянно говорят о грозных и чудесных знамениях, войнах, разрушениях городов, голоде, землетрясениях, солнечных затмениях, наводнениях и т. д. но можно умилостивить разгневанное божество. Благочестные жертвы и празднества могут предотвратить надвигающуюся грозу; поэтому-то в оффициально столь верующем Ряме во всякое время прибегают к сивиллиным книгам. К сивилле, таким образом, не только направляются вопросы отдельных личностей; нет, она сама обращается к массам, предрекая судьбы народов, ибо она сама дитя народа. Её стихи грубы, в них так мало художественной обработки, что в древности образованные люди, которые не могли понять, как можно сочинять такие плохие стихи, удивлялись этому и придумывали для этого самые разнообразные объяснения. Плохим стихам соответствует стилистическое несовершенство. Мысли развиты слабо, и таким образом, вероятно, не без намерения, речь становится темной и запутанной. Когда мрачный эфесский философ Гераклит «Темный» отчеканивал свои резкия, полные презрения мысли, он указал между прочим на сивиллу, которая говорит «яростными устами, без улыбки, без прикрас, без подмазывания, побуждаемая богом».
Яростными устами! Если она сама лишь в своих позднейших стихах, имеющих вполне определенный стиль, все снова и снова просит бога, хотя бы о временном отдыхе, если она, будучи лишь услужливым орудием божества, сама не подозревает, что говорит, то эта мысль, хотя она уже и превратилась здесь в пустую традицию, является первоначальной предпосылкой поэзии сивиллы. Платон также выражается, что сивилла говорит, сама не зная что. Таким образом, как в глазах масс, так и в глазах отдельных мыслителей она, является как бы боговдохновенной. Насмешка Аристофана, который потешается над фантастическими изречениями сивиллы, этого не опровергает; ибо над чем не смеялась комедия! В сознании масс сивилла остается прорицательницей мрачных, чреватых грозными событиями истин до самого позднего средневековья.
Так совершает сивилла свои странствования по земле и привлекает к себе одну местность за другой. Она перенеслась и через Адриатическое море, в окрестности огнедышащей горы в Кампании, до города Кум. Здесь она основала свое второе знаменитое местопребывание. Когда говорят о сивиллах, то подразумевают при этом, главным образом; эритрейскую, кумейскую, а позже, в средние века – тибуртинскую. Здесь в Кумах, на вулканической обильной пещерами почве Кампании, сивилла имела свой грот. Один неизвестный христианский писатель говорит, что в IV столетии по Р. Хр. ему удалось видеть это жилище сивиллы; оно представляло собою, по его словам, высеченную в скале базилику с бассейном, служившим сивилле для купанья. После купанья она отправлялась внутрь грота и с возвышенного места возвещала свои предсказания. Последние в этой местности ей легко было делать. Ей достаточно было продолжать свои старые пророчества о землетрясениях и извержениях, чтоб найти кругом полную веру. О ней скоро сложилась легенда, что она поселилась в Кумах еще в седой древности; ей было уже 700 лет, когда она водила Энея в ад. И еще ей суждено прожить 600 лет; так, в конце концов, она превращается лишь в голос, исходящий из пещеры.
По образцу кумейских изречений в Риме стали делать свои. Нужда научила не только молиться, но и подделывать. В пылу борьбы с Ганнибалом, при всякой неудаче обращались к священным, таинственным изречениям пророчицы, а если они говорили слишком мало, недостаточно ясно, то их заставляли говорить больше, яснее. И эти поступки верующих не вызывали особенного гнева сивиллы; она требовала только для отвращения беды жертв и процессий, а так как римляне, уверенные в божественной помощи, также и сами помогали себе, то успех и авторитет изречений постоянно возрастал.
Между тем как сивилла таким образом на чужбине приобретала все большее и большее значение, на своей родине она постепенно пережила свои пророчества. С веками в Элладе прошло священное опьянение, а накоплявшиеся одно за другим изречения образовали, в конце концов, целую литературу. В ученой Греции, конечно, не было недостатка в знатоках этой литературы. Последним многие изречения оракула казались «ненастоящими». В противовес этому предсказания стали сочиниться в виде акростихов. Литературный интерес вытеснил, таким образом, последний остаток естественности из этих стихов. Появились целые трактаты об отдельных сивиллах, делались попытки писать в их духе. Это направление заразило также в конце концов и самих сивилл. Когда вавилонский жрец Ваала, Бероз, написал свою историю Вавилона, в которой он говорит о потопе, о спасении семьи в ковчеге и т. д., тогда одна из сивилл, назвавшая себя вавилонской или дочерью Бероза, дала поэтическую обработку этого сюжета, при чем, конечно, опять изобразила все, как еще долженствующее совершиться событие.



