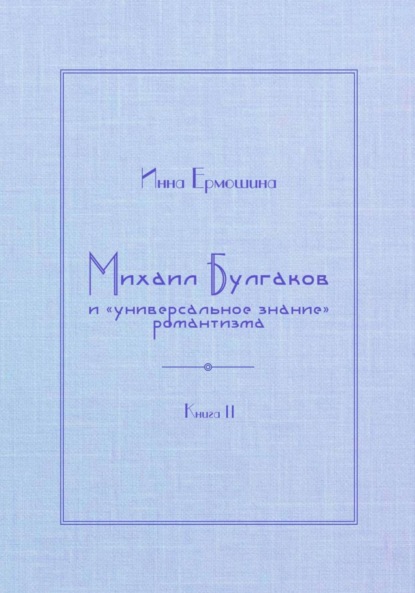
Полная версия:
Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 2. Мудрость профессора Преображенского
Если Преображенский – следующая после Персикова ипостась Фауста у Булгакова, если второй московский профессор – уже состоявшийся маг и волшебник, со знанием дела и уже без помощи спутника-подручного Мефистофеля управляющийся с телесным, чувственным жаром, умеющий его усиливать и даже «пересаживать» от низшей органической формы (собаки) высшей (человеку),значит, в повести СС обязательно должны быть детали, связанные с темой и низкого, и высокого взаимодействия с женским началом. Также следует присмотреться к образу Преображенского и определить возможные признаки способности его к «парению», «полету», что у гётевского Фауста как раз связывалось с достижением высокого уровня мастерства в создании жизнеспособных творений, сплавлении духа и материи, «видений и вещей».
К деталям, связанным с темой любовного влечения к женщинам в повести СС к женщинам, с полным правом можно отнести музыкальный фрагмент, повторяющийся в повести неоднократно, – романс «Серенада Дон Жуана» П. Чайковского на слова поэта А. Толстого из поэмы «Дон Жуан» (1862 г.).
Музыка к «Серенаде Дон Жуана» была написана П. Чайковским в 1878 г. «Много крови, много песен!..» [25, с. 442], – напевает профессор фразу из романса, обсуждая операцию своего клиента, улучшившую его мужские способности. Пациент, судя по его рассказам о себе и фривольным фотокарточкам, выпавшим из кармана, вполне может быть назван московским Дон Жуаном. Он подпевает профессору: «Я же той, кто всех прелестней!..» [25, с. 442].
Слова романса объединяют врача и пациента, жаждущего получить новые силы в любовных утехах. В поэме А. Толстого они звучат в сцене признания Дон Жуана в страсти к легкомысленной городской красавице Нисете с призывами к ней и обещанием готовности отдать за нее жизнь в сражении с соперниками. Вот фрагмент романса:
От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей;
Много крови, много песен
Для прелестных льется дам, –
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь мою отдам!…23
«От Севильи до Гренады», – эти слова профессор Преображенский напевает и в разговоре с клиентом – стареющим ловеласом, признавшимся профессору в возвращении молодой страсти после лечения, и при обсуждении операции с пожилой дамой, скрывающей свой настоящий возраст и жаждущей омоложения, чтобы не потерять молодого любовника («Я знаю, что это моя последняя страсть… Ведь это такой негодяй! <…> Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод!» [25, с. 443]). Таким образом, слова романса, являясь ироничной, пожалуй, даже саркастичной«меткой» для московского варианта донжуанства, еще и подкрепляют тему «всегдашности» любовных страстей и человеческих устремлений к вечной молодости. Увиденная в таком ракурсе тема Дон Жуана, опосредованно присутствующая в деятельности профессора Преображенского, расширяет горизонты сюжета до большой темы «омута страстей и чувств», влияющих на каждого человека, в том числе на тех, кто поставил своей целью исчерпывающее познание мира. Так донжуанство в повести Булгакова обретает статус части фаустианского грешного познания, актуализируя задачи овладения силами, живущими в груди/сердце познающего.
Близкое к булгаковской эпохе определение понятия сердце в Толковом словаре В. Даля гласит: сердце – это «нутро, недро, утроба, средоточие… нравственно оно есть представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала, противоположно умственному, разуму, мозгу…»24. В соответствии с возможностью трактовать сердце как средоточие «низких» (плотоядные страсти) и «высоких» (любовь, духовные порывы к совершенству) качеств живого существа, слово «сердце» в названии повести Булгакова о втором профессоре можно отнести к обозначению писателем той области знания, которую так жаждал освоить гётевский Фауст и к тайнам которой оказался причастен в ходе своего эксперимента с созданием человека из собаки профессор Преображенский. Соответственно, мы можем констатировать, что тема познания при сравнении образов двух профессоров, представленных Булгаковым в повестях РЯ и СС, дана писателем в развитии: от первого профессора – сухого естествоиспытателя, чуждого полнокровной жизни души и сердца, который вне своей области (зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии) ни о чем не говорил, газет не читал, в театр не ходил [23, с. 357], жил без семьи и близких («жена профессора сбежала от него с тенором оперы» [23, с. 357]), ко второму, имеющему близких и друзей (Борменталь, Зина, Дарья Петровна), заядлому театралу, любителю опер, принявшему, по сути, сердечное решение нивелировать сомнительные итоги своего эксперимента, породившего «паршивое сердце» Шарикова/Клима,.
Классический образ Дон Жуана в описании литературного критика булгаковской эпохи А. Веселовского охарактеризован так: «Блеск и красота, смелость, доходящая до дерзости, чувство безнаказанности и презрения к людям, вера в свою счастливую звезду, сознание, что “смерть еще далеко и до нее осталось много наслаждений”, злая насмешливость и веселость, умение схватить добычу с налету и тонкое притворство в нежности и любви…»25. История ловеласа, ставшего героем легенд, в определении многих литературных критиков рубежа XIX–XX в. – это романская ветвь предания о мятежнике, разбившем рамки обыденности и привычной морали, отказавшемся от будничной скуки и устремившемся к полному, бесконечно разнообразному личному счастью, что сближает его историю с северной, германской легендой о Фаусте: обоих «мятежников манит все неизведанное, они идут вперед с отвагой завоевателей», оба хотят стать подобными Богу (eritis sicut deus)26. Связь образов Фауста и Дон Жуана прослеживается и у Гёте. «В истории с соблазнением Гретхен не устами ли Дон Жуана говорил Фауст?»27 – вопрошал А. Веселовский, а критики рубежа XIX–XX вв. отмечали, что истории Фауста и Дон Жуана – это вариации темы вечно неудовлетворенного человеческого духа, где Фауст – трагедия духа, а Дон Жуан – трагедия чувственности28, причем тип Фауста универсальнее типа Дон Жуана, потому что чувственность входит как элемент и в Фауста29.
Интересно, что Преображенский напевает слова из серенады Дон Жуана также в сценах, не связанных с темой плотских утех. Как было отмечено в первой книге нашего цикла, булгаковское «оплотнение» текста многочисленными говорящими деталями требует погружения в смысл сцен, в которых встречается приметная поэтически-музыкальная цитата, и обязательного сопоставления его со смыслом произведения, цитируемого Булгаковым: в этом случае проявляются моменты согласия либо опосредованной дискуссии Булгакова с цитируемым автором.
Так, строки романса на слова А. Толстого из поэмы «Дон Жуан» звучат из уст Преображенского во время откровенного разговора с ассистентом Борменталем в ситуации, когда Шариков уже проявил свою подлость и низость. Борменталь намекает на возможность обращения эксперимента вспять, что подразумевает убийство Шарикова: «Ведь это единственный исход. Я не смею вам… давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать!» [25, с. 501]. Профессор в этом разговоре вспоминает слова серенады сразу после признания о том, что он «так одинок… "От Севильи до Гренады…"» [25, с. 501] и на предложение Борменталя отвечает так: «И не соблазняйте, даже и не говорите… и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на "принимая во внимание происхождение" отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость» [25, с. 501]. В этой сцене коллизия, в которой оказались герои булгаковской повести, отчасти совпадает с ситуацией из поэмы А. Толстого «Дон Жуан» – той самой, серенаду из которой напевает в разговоре Преображенский. Дон Жуан (имя его в поэме Толстого Тенорьо де Маранья), сознавая свое одиночество в борьбе с церковью и законом, отвергает предложение своего слуги Лепорелло убить и сдать властям и инквизиции в качестве свидетельства «покаяния» некоего Боабдила – неудачливого убийцу, которого подослали к Дон Жуану члены Святого братства (familiares –инквизиция). Предложение расправиться с Боабдилом от Лепорелло схоже с предложением Борменталя Преображенскому:
Лепорелло
Формальный вам готовится процесс;
Арестовать должны вас очень скоро.
Меж тем разосланы во все концы
Глашатаи, чтоб ваше отлученье
От церкви и закона объявить.
Пропали мы совсем!
<…>
…бродяга этот,
Отступник, шельма, висельник и вор,
На вас беду накличет. Средство ж есть
Не только избежать беды, но пользу
Из шельмы этого извлечь, когда вы
Послушаетесь моего совета
И в рассужденье вникнете мое.
<…>
…схватить его сейчас
И на дворе публично сжечь. Мы этим
Докажем всем, в ком есть на нас сомненье,
Что добрые мы христиане30.
Де Маранья отвергает предложение Лепорелло, более того, дает Боабдилу деньги на покупку корабля и снаряжения для морского разбоя.
В повести Булгакова одинокий и уже знакомый с преследованием судебной системой Советской России «пречистенский мудрец» Преображенский, помощник московских Дон Жуанов, знающий секреты возрождения любовной страсти, демонстрирует ту же силу духа и порядочность, что и де Маранья в поэме А. Толстого, отказываясь от подлых действий в отношении своего подопечного, охарактеризованного тоже как образчик низости.
Случайно ли это обращение М. Булгакова в целом к содержанию поэмы А. Толстого о Дон Жуане, а не только к смыслу романса из этой поэмы – любовного призыва к красотке Нисете? Как показал анализ повести РЯ, у Булгакова не бывает случайностей, все рассчитано и работает на углубление, символизацию персонажей. Сближая образ Преображенского с образом Дон Жуана, писатель акцентирует одну из важных тем фаустианского познания – донжуанство – как метку вектора познания главного героя, направленного вглубины человеческих страстей, тайн сердца. Это булгаковское сравнение тем более важно и интересно, что финалы многочисленных вариантов легенды о Дон Жуане, созданных в XIX в., различались, и мы можем попытаться восстановить один из этих вариантов, выбранный автором «Собачьего сердца».
А. Толстой писал о своем герое так: «Каждый, впрочем, понимает "Дон Жуана" на свой лад, а что до меня, то я смотрю на него так же, как Гофман: сперва Дон Жуан верит, потом озлобляется и становится скептиком; обманываясь столько раз, он больше не верит даже и в очевидность»31. Великим скептиком, особенно в первое знакомство его с Мефистофелем, считался и Фауст, и в свете этого факта важным для литераторов XIX –начала XX в. был вопрос: достоин ли Дон Жуан создаваемых им бурь любовных чувствований, нередко имеющих трагический финал для женщин и их близких, блаженства, коего была удостоена у Гёте бессмертная часть духа Фауста? Можно ли признать благим поиск любовного идеала Дон Жуаном, бегущим от очередной покоренной им женщины к новой женщине, новой любви?
Вопрос этот волновал многих больших авторов в литературе и решался двояко.
В первом варианте Дон Жуан представал как неисправимый грешник, «человек под властью исключительной чувственности, развратный, беспринципный, безбожный и посему достойный самой тяжкой кары – вечных адских мучений»32. Именно этот вариант, как отметил литературный критик Н.Я. Котляревский в 1909 г., избрал А.С. Пушкин в «Каменном госте», где сюжет разрешается при помощи Божьего суда (посредством ожившего Командора) и наказания Дон Жуана смертью и низвержением в ад33.
Во втором варианте оценки судьбы Дон Жуана акцент был сделан на теме Божьей милости и благодати. Бегство Дон Жуана от женщины к женщине связывалось с поиском вечного идеала, т.е. связывалось с силой человеческого духа и свободой его проявления. Оправдание вольностей Дон Жуана сторонниками второго варианта оценки его судьбы требовало признать необходимость искупления Дон Жуаном тех страданий, которые он причинял другим людям. Осознанное очищение от грехов должно преобразить грешника в праведника, вести к перевоплощению его сердца и помыслов. Критик булгаковской эпохи Н.Я. Котляревский, противопоставляя такой вариант судьбы Жуана пушкинскому финалу «Каменного гостя», в 1909 г. писал: «Рядом с Дон Жуаном, беспечным, жизнерадостным и сатанински гордым, мы встречаем другого Дон Жуана, который, нагрешив вдоволь, начинает помышлять о покаянии, в конце концов превращается в кающегося грешника, достигающаго в своем покаянном рвении иногда высокой степени святости»34.
А. Толстого, цитируемого Булгаковым в повести СС, безусловно, следует отнести к приверженцам гуманистичного варианта оценки судьбы Дон Жуана. В этом выборе А. Толстой следовал по стопам Э.Т.А. Гофмана35, впервые в литературе смягчившего отношение к Дон Жуану, а также, похоже, примеру А. Дюма, из пьесы-мистерии которого «Дон Хуан де Маранья или Падение ангела»36(1836 г.) заимствовал имя главного героя для поэмы, как и идею Дюма о демонической природе донжуановских страстей, что органично воспроизводит гётевское родство Фауста, бросившегося в омут чувств, с чертом-Мефистофелем. Для нашей интерпретации образа профессора в булгаковской повести СС важна связь образа Жуана (Хуана) у А. Дюма и А. Толстого с образом гётевского Фауста. У А. Дюма действие пьесы предваряет спор Доброго и Злого ангелов о возможностях главного героя совершить злое либо доброе деяние; у А. Толстого Злые духи хвастаются способностью «шевелить» Хуана де Маранья и сподвигать его на все новые поиски идеальной любви в ущерб и себе, и влюбленным женщинам, – и все это повторяло суть спора Бога и Мефистофеля о душе и судьбе главного героя в Прологе у Гёте [40, с. 34–35].
Цитирование Булгаковым поэмы А. Толстого в напевании главным героем повести СС фраз из романса в свете приведенных сравнений можно рассматривать как достаточно верное указание на идеальный прототип образа профессора Преображенского. Это, несомненно, Фауст37 с милосердным уточнением М. Булгакова, что он способен, как и Дон Жуан в интерпретации Э.Т.А. Гофмана, А. Толстого и А. Дюма к покаянию и преображению собственного сердца, к спасению бессмертной части своей души. У А. Толстого де Маранья, болезненно пережив самоубийство своей последней возлюбленной донны Анны, остаток жизни провел в монастыре, чем заслужил прощение Бога перед смертью. Де Маранья у А. Дюма в последнюю секунду перед смертью кается и просит у Бога прощения, чем спасает душу и обретает, как и Фауст, вечное блаженство на Небесах. У Булгакова финал профессорского эксперимента демонстрирует способность главного героя к осознанию своих ошибок: вторгшись в «ведомство» самого Бога, пытаясь найти человеческие пути к поддержанию молодости и страсти, Преображенский совершил ошибку, вернув к жизни сердце Клима Чугункина, – «самое паршивое из всех, которое существует в природе» [25, с. 505], но нашел в себе силы отказаться от достигнутого и признал наилучшим естественный путь совершенствования живых организмов, т. е. путь Бога/Природы. В рамках религиозной картины мира, с которой явно связаны сюжеты с Добрыми и Злыми Ангелами у А. Толстого и А. Дюма, поступок Преображенского вполне может быть соотнесен с признанием московским Фаустом собственного греха, что, в свою очередь, косвенно обличает М. Булгакова в прикосновении в теме Фауста-Жуана к религиозной материи.
Отметим еще один важный нюанс обращения Булгакова к теме Фауста-Дон Жуана в повести СС. Тема жизни сердца главного героя представлена Булгаковым в повествованиине на уровне ее бытования, т.е. не в описании любовных похождений профессора, как сделал Гёте в истории соблазнения Гретхен Фаустом. У Булгакова присутствуют намеки на возможную активную погруженность главного героя в гущу чувствований, вот пример: «Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу…» [25, с. 457]. Но позже происходит уточнение, что профессор был в театре, т.е. месте, где как раз происходит высокое осмысление чувствований людей («…если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле…» [25, с. 460]). Все описания проявлений донжуанства в повести связаны не с Преображенским, а с его клиентами, а также Шариковым, который неудачно привел в квартиру к профессору машинистку Васнецову с намерением с ней расписаться, и поварихой профессора Дарьей Петровной, вечерами принимавшей у себя в кухне страстного черноусого пожарника.
Не донжуанствуя, профессор Преображенский обладает знаниями и умениями донжуанство поддерживать, иными словами, он в определенной степени –актор донжуанства, владеющий тайнами усиления «внутреннего жара» жизни, что превращает его в персону, поднявшуюся над бытованием донжуанства к «высоким этажам» творцов и мыслителей, исследующих проблемы феномена любовной страсти и влияющих на этот феномен. А. Веселовский назвал Дон Жуана жрецом чувственности38 – булгаковский Преображенский тоже назван жрецом [25, с. 462]. Умело усиливающий чувственность, возрождающий ее, научившийся властвовать над чувствами на пользу своему духу и творческому созиданию, он вполне может быть назван жрецом для Дон Жуанов, мастером, магом, еще не в полной мере (поскольку крупно ошибся), но в целом овладевшим тайнами производительных сил природы, олицетворяемых в женских образах древних богинь.
У Гёте достижение магического могущества Фауста, овладевшего тайным свойством природы приносить нужные плоды, представлено в декорациях античности и Средневековья с использованием образов мифов и легенд, магических практик древности, в метафорах утонченного эзотеризма. Иное выведено на первый план в повести М. Булгакова СС, где решение фаустианско-донжуановской темы происходит в декорациях Москвы 1924 г. с привлечением реалистичного хирургического опыта самого автора39. Так Булгаковым актуализируется принцип романтической иронии: разбивание сложной и многогранной темы повести на массу «осколков», имеющих знаки, отсылающие к вариантам темы в прошлых эпохах. Цель – полноценное ментальное погружение читателей в современную писателю эпоху и одновременно с этим – в архетипичные ситуации, связанные с процессом познания. Булгакову удалось отобразить в повествовании об эксперименте Преображенского наиболее заметные тенденции в естествознании первой трети ХХ в. в России и мире – значимый прогресс в изучении желез внутренней секреции и хирургии. Второй профессор Булгакова – «маг», «колдун», «волшебник», и он же – «великий ученый» [25, с. 504], «величина мирового значения» [25, с. 433], «не имеющий равных в Европе» [25, с. 465], «Москве, Лондоне и Оксфорде» [25, с. 502], создатель собственного метода омоложения в хирургии. Возросшее умение профессора Преображенского обновлять и усиливать любовный жар у своих пациентов, что вполне подходит под определение магии, зависит в первую очередь от хирургического опыта главного героя.
Итак, в отличии от первого булгаковского профессора Персикова, случайно обнаружившего луч, усиливающий и ускоряющий рост живой материи, второй булгаковский Фауст, профессор Преображенский, заметно ближе в познании живой материи к тайнам ее рождения, что демонстрирует его эксперимент, итогом которого стал гомункул. Какую роль играл в этом открытии пес с сатанинским душком и жрецом какого божества можно считать Преображенского? Какое искушение преодолел второй булгаковский профессор? В чем предложенный Булгаковым метод создания гомункула в Москве в 20-е годы ХХ в. в научном и мифолого-герметическом измерении отличается от методов, представленных Гёте в истории Фауста и Г. Уэллсом в романе «Остров доктора Моро»?
Вперед, читатель!
2.Отображение достижений в области хирургии и эндокринологии в повести М. Булгакова «Собачье сердце» и романе Г. Уэллса «Остров доктора Моро»
В системе человеческих знаний о природе, носящих название «науки о природе», заложена грандиозная потенция, которой не видно предела.
Завадовский М.М. Страницы жизни.
Литература отражает действительность как верное, иногда даже как пророческое зеркало. То, что в жизни еще смутно предчувствуется, в искусстве уже совершается.
Мережковский Д. С. Неоромантизм в драме.
Повесть М. Булгакова «Собачье сердце» (1925 г.) и роман Г. Уэллса «Остров доктора Моро» (1896 г.) объединяет тема гомункула и ее связь с возможностями современной английскому и российскому писателям медицины в искусственном воссоздании живого существа.
В романе Уэллса повествуется о невероятном приключении почитателя естествознания мистера Прендика, который после кораблекрушения становится невольным гостем затерянного в океане безымянного острова. Хозяин небольшого поселения на острове – известный доктор Моро, проводивший хирургические эксперименты с животными для превращения их в людей. Изгнанный с «большой» земли за жестокость в своих исследованиях, доктор бежал на остров и основал научную лабораторию с операционной, назвав ее Дом страдания. Моро был уверен, что мучительные переживания боли зверями во время и после операций (доктор осознанно не пользовался обезболиванием) должны способствовать быстрому очеловечиванию. Прендик наблюдает довольно сомнительные успехи доктора на острове: Моро удалось создать несколько десятков так называемых «зверолюдей», соединив, как в живом конструкторе, хирургически отдельные части тел и внутренних органов разных животных. Однако все они внутренне остаются зверями, подчиняясь доктору лишь из страха новой боли и в силу принудительного ежедневного заучивания правил человеческого поведения. Главным препятствием в создании человека из зверей для Моро стал так называемый центр эмоций, который оказался полностью неподконтрольным ему в ходе экспериментов. Прендик попадает на остров Моро в момент, когда доктор осуществляет свой наиболее дерзновенный замысел – создает человека из пумы. Финал эксперимента трагичен: человек-пума убивает Моро, на острове начинается бунт зверолюдей против сотрудников лаборатории, люди гибнут, и лишь Прендику удается спастись. Его рассказы о Моро в последующем воспринимаются окружающими как легенда
Сравнение отношения английского и российского писателей к тонкостям и деталям темы искусственного воссоздания человека представляется не просто интересным, но и необходимым для детализации и углубления понимания научного и герметического диалога, который вел Михаил Булгаков со своим собратом по перу, таким же знатоком естествознания и герметизма, что уже продемонстрировало сравнение булгаковской повести РЯ и уэллсовского романа «Пища богов»40.
В романе «Остров доктора Моро» Уэллс отчасти стремится затемнить конечную цель экспериментов с живой плотью и ее внутренними настройками. На вопрос Прендика доктору Моро, почему именно человека он так последовательно, раз за разом, воплощает из «звериного» исходного материала, он отвечает, что переделку одних животных в других тоже осуществлял и что выбор человека как главной цели «был совершенно случайный… есть в человеке нечто приятное эстетическому чувству» [144, c. 206–207]. Однако конечная цель Моро – создание из зверя хирургическим путем живого существа с усиленной «умственной жаждой» [144, c. 208], сравнение им своих опытов с попытками средневековых магов-докторов создать искусственным путем человека [144, c. 205], как и цель профессора Преображенского в повести СС – превратить собаку в «чрезвычайно высоко стоящее» существо» [25, с. 481, 503], – несомненно, связана с темой создания гомункула. Опыты ученых в романе Г. Уэллса «Остров доктора Моро» и в повести М. Булгакова «Собачье сердце» явно объединяет общая область научного знания и практических манипуляций, которая в романе Уэллса емко названа«пластичностью живых форм»41 [144, c. 205], и, судя по цели и размаху экспериментов в романе и повести, они связаны с фаустианством.
Оба автора прибегли к описанию хирургического метода преобразования живого природного материала, что не выглядит случайным. Именно на рубеже XIX–XX вв. оформился «физиологический этап развития хирургии»42, в котором перед хирургами открывалось широкое поле и для помощи больным людям, и для экспериментирования/манипуляций с живыми организмами. Благодаря применению асептики и антисептики(прежде всего карболовой кислоты), обезболивания (чаще всего хлороформом), а также возможности восполнять кровопотери во время операции переливанием крови выживаемость прооперированных пациентов резко возросла43. И Булгаков, и Уэллс прибегли к фабуле, раскрывающей фантастические возможности хирургии, явно апеллируя к огромным ожиданиям современниками чудес в этой быстро развивающейся практической области медицины.
Доктор Моро в романе Уэллса в своих экспериментах использует все новейшие достижения хирургии. Свой путь к созданию экспериментальной лаборатории по хирургическому созданию людей из животных он начал с опытов по переливанию крови [144, c. 171], затем Моро «вооружает» свою хирургию антисептиками [144, c. 206], после чего пробует себя в роли создателя человека. Исходя из убеждения, что «хирургия … способна не только разрушать, но и созидать» [144, c. 204], Моро в созданном им опытном «городке» на затерянном острове в океане пытается создавать новых существ, пересаживая и приживляя части тела, органы и ткани одного животного другому. Моро утверждает: «Физиология, химическое строение организма … могут быть подвергнуты значительным изменениям, примером чему служит вакцинация и другие всевозможные прививки, которые, без сомнения, вам хорошо известны. Подобной же операцией является и переливание крови, с изучения которой я, собственно, и начал. Все это родственные случаи» [144, c. 205]. В его опытах теория подтверждена практикой: пересадка органов тела от одного живого существа другому приводила к смене биохимических процессов в организмах подопытных животных, в результате их тела превращались в человеческие [144, c. 204–205]. Опять, как и в романе «Пища богов», Уэллс описал возможные последствия вполне реальных новшеств в медицине своего времени, немного выйдя за пределы уже имеющихся достижений, что вновь подтверждает использование писателем естественнонаучной базы как источника творческой фантазии особого вида с достоверными деталями из медицинской практики.

