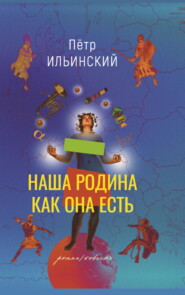скачать книгу бесплатно
Наша родина как она есть
Петр О. Ильинский
«Наша родина как она есть» – это подробное и правдивое описание ряда событий из жизни небольшой среднеевропейской страны, которая после долгого периода забвения желает в полный голос заявить о себе и о своем месте на географической и культурной карте. Нечего и говорить, что именно этой стране и деятелям ее героического прошлого мировая цивилизация обязана множеством открытий и свершений: от изобретения колеса до победы в Холодной войне, точные доказательства чего читатель всенепременно обнаружит в тексте, попутно узнав среди героев произведения ряд широко известных персонажей европейской истории. В книгу также включена ранее опубликованная и переработанная для настоящего издания повесть «Резьба по камню», которая затрагивает вопрос о связи времен в гораздо более серьезном ключе.
Пётр Ильинский
Наша родина как она есть
© Ильинский П.О., 2023
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2023
Наша родина как она есть
ПОПУЛЯРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по горисландской (горичанской) истории, географии и культуре – с кратким очерком этнографии, упоминанием особенностей фольклора, а также с вкраплением объяснения, перевода и этимологии наиболее употребительных слов, выражений и поговорок языка горичан (горисландцев), – тщательно переложенный на великоросское наречие для поучения любопытствующих граждан и заинтересованных сторон
Переведен с языка оригинала сотрудником научных учреждений столицы, эксперт-консулът-советником ряда СМИ, кандидатом этнических наук, дипломированным археоведом и палеодескриптором Вильямом Степановичем Бубенниковым-друдзем
От публикатора
Рукопись эта появилась в моем компьютере несколько месяцев назад. Пришла она от имени неизвестного дотоле научного издательства из неброского, но славного своим прошлым городка, что тянет ввысь сосны, кресты и трубы в самом центре России. Любопытно, что неподалеку от тех мест находится крупный исследовательский центр совсем не гуманитарного свойства – впрочем, связь упомянутых учреждений пока не обрела никакого подтверждения.
Сопроводительное письмо отсутствовало, и я хотел было сбросить непрошеную посылку в папку для компьютерного мусора, но заинтересовался, благо защитные программы дружно подтверждали: никаких зловредностей загадочный файл не содержит. Открыв его, я наискосок просмотрел рукопись. Было очевидно, что, по крайней мере, некоторые содержащиеся в ней эссе или, скорее, новеллы, выполнены не без изящества и, помимо этого, несут отчетливую познавательную нагрузку. Тем не менее, я так и не знаю, чего же от меня хотели издательские профессионалы – рецензии, комментариев, редактуры? Все попытки вступить в переписку с отправителем наталкивались на сообщения о неработающих и незарегистрированных электронных почтовых ящиках, предупреждения о компьютерных вирусах или попросту оставались без ответа. Коллеги, у которых я тщился навести справки, вежливо пожимали плечами или не менее вежливо сообщали о своем неведении в письменной форме.
Не желая утаивать бесхозный и безадресный, но отчасти талантливый труд от читательского внимания и чувствуя в некотором роде ответственность за его судьбу, я предпринял определенные действия для издания своей нежданной добычи, завершившиеся, как нетрудно заметить, полным успехом. Ну, мы тут все-таки не чайники ополаскиваем.
Тем не менее, должен предупредить, что характер рукописи мне по-прежнему неясен. Начинается она неторопливо и безыскусно, сходно с обыкновенным учебником истории или развернутой монографией и даже чересчур изобилует ссылками и цитатами (впрочем, не всегда поддающимися верификации). Однако затем текст становится все фрагментарнее, теряет остатки акрибии и перетекает в повествование весьма популярного характера, уделяя особенное внимание культуртрегерству самого многоцветного свойства.
Этому, кстати, можно только поаплодировать, поскольку иначе как заинтересовать нынешнего читателя? Который поглощает книгу страницами, редко – абзацами и почти никогда не вдумывается в смысл отдельных фраз и, тем более, слов. Зачем нашему современнику детали, зачем излишняя точность – его волнует один лишь дух. Точка обзора может быть произвольной, главное, чтобы с нее открывалась животрепещущая панорама. А древняя история именно что обрывочна по существу и состоит из археологических раскопов и каменных плит неизвестного назначения. Средневековье же легко сводится к текстам с зияющими в них лакунами, Возрождение – к живописи и перевороту мироустройства, XVII-й век – опять-таки к живописи и осмыслению последствий оного переворота, XXIII-й – к музыке и предчувствию революции, XIX-й – к той самой революции и снова к музыке, XX-й – к коммунизму и футболу, а про XXI-й даже думать не хочется. Почти все эти темы нашли свое отражение в нижеследующем манускрипте, кроме разве что футбола, за каковое упущение автору надо все-таки слегка попенять. Не за тем, чтобы придраться, конечно, а во имя холодной объективности и строгой беспристрастности.
Так вот, не так ли следует писать историю? – не раз восторженно думал я, понемногу вникая в этот, нужно признать, несколько своеобразный сочинительский опыт. Не стесняться трудных вопросов, неразрешимых загадок, ярких параллелей и использования слова «пиво» там, где оно более чем уместно. Пусть читатель морщит лоб, задумывается, пусть чешет в затылке, разгадывая заданные ему ребусы.
Впрочем, надо честно сказать, что помимо исторически достоверных, автор активно привлекает образы явно фольклорного происхождения (не имеющие аналогов и хотя бы потому чрезвычайно любопытные) и не тщится подвергнуть их даже наималейшему научному анализу или хотя бы синтезу. Не очень понятна и роль так называемого «переводчика»: в какой мере предлагаемый опус является, как и положено, переводом, в какой – компиляцией, а в какой, прошу прощения, фантазией? И кто же есть создатель настоящего сочинения, истинный его автор? Каковы были его цели, какими методами он пользовался? Почему им был избран подход столь нетрадиционный, хотя и привлекательный? Какие работы послужили ему основанием, какие он, после долгих колебаний, решительно отбросил?
Увы, ответ на эти вопросы пока неведом. Как известно, за последнее время в отечественной печати появилось немало добротно склеенных и солидно переплетенных фолиантов, авторы которых в силу различных причин предпочли остаться за кадром. Не исключено, что в распоряжении переводчика оказалось издание сходного характера и что он, по-видимому, не один месяц корпевший над переложением данного произведения на русский язык, тоже пребывает в неизвестности относительно интеллектуального провенанса сего магнум-опуса. Это, впрочем, всего лишь смелое предположение.
В любом случае, на сегодняшний день остается неустановленным, чье имя должно венчать обложку сочинения, которое уважаемый читатель держит в своих зудящих от нетерпения руках, коль скоро его до чесотки снедает охота познать, наконец, что-нибудь полезное… Несмотря на это, публикатор, разумеется, готов поделиться гонораром (не таким, кстати, большим) с г-ном Бубенниковым, ежели последний соблаговолит объявиться и предъявить надлежащие доказательства своих литературных прав. Разумеется, с печатью и подписью, на гербовой бумаге, заверенные по всей форме и т. д.
От переводчика
Дорогие соотечественники! Конечно, историю творят великие народы – американцы, евреи, немцы, японцы, арабы, туркмены, украинцы.
Жаль, что для нас в этом списке места нет, но ничего не поделаешь. Что дозволено ослу, не дозволено Сократу, как, кажется, сказал кто-то из древних.
Не будем также забывать и о весомом вкладе в духовную сокровищницу человечества, сделанном малыми нациями – финнами, эстонцами, латышами, грузинами, голландцами, гагаузами, готтентотами.
Печально, но и в этот список нас поставить нельзя. Даже если очень хочется – истина дороже.
Тем более рьяно и упорно стоит россиянам изучать исторический опыт тех высококультурных народов среднестатистического размера, без которых мировую цивилизацию представить невозможно. Может быть, тогда мы со временем станем на них хоть чуть-чуть похожи.
Избавимся, наконец, от имперских порывов и танковых прорывов, толстовщины и достоевщины, рококо и постмодернизма, гордости (за себя), жалости (к себе), самоедства, отсталости, околицы, околичности, ортодоксальности, оружия, онучей, опят, нефти, наледи, нигилизма, черной икры, стяжательства и нестяжательства, пьянства, искреннего и почти радостного равнодушия к любой власти, за исключением той, которую олицетворяет собственная жена, ночных разговоров на кухне, веры во что-то неземное и обязательно трепетное, желания славы (своей), успешного пения «а капелла» без каких-либо репетиций в компании небритых незнакомцев, упоительных постельных истерик с очередной персидской княжной, правящей в открытое море – это уж кто кого первый отправит за борт – и любви к подледному лову в неурочное время года.
Ради исполнения этой вековой мечты нашего народа и его лучших сынов стоит жить и работать! Плод именно такого труда с расчетом на вечность – перед вами, уважаемые читатели!
Скорбно сознавать, но до самого последнего времени познания обыкновенного, т. н. интеллигентного россиянина о горичанах (горисландцах) были весьма скудны, чтобы не сказать предельно ничтожны. Отчасти (но ни в коем случае не полностью!) нас может извинять лишь то, что по своей численности эта древняя европейская нация скорее приближается к датчанам или таджикам, нежели к бразильцам или китайцам[1 - Но ведь о таджиках мы теперь очень неплохо осведомлены, не правда ли?].
Однако гораздо больше в слабом развитии отечественного горичановедения (и горисландографии) повинно наше тяжелое тысячелетнее прошлое, а в особенности недавно еще процветавшее на грядках родины почти вековое владычество волюнтаристов от истории, самочинно решавших, что могут, а чего не могут знать их подневольные подданные. Но не вечно же нам пребывать в беспросветности и невежестве, подобно нашим отцам, дедам, прадедам и прапрадедам! Пусть же знакомство с этой книгой станет одним из робких шагов на долгом пути России к просвещению и цивилизованности. Время – вперед!
В заключение хотелось бы выразить признательность за неоценимую помощь в работе над переводом, оказанную рядом международных организаций и благотворительных фондов, сочувственно и серьезно отнесшихся к предлагаемому труду: Общеевропейскому Агентству по Культурному Взаимопроникновению (ОАКВ), комитету ЮНЕСКО по Ознакомлению с Полузабытыми Древностями Лесостепной Полосы (ОПДЛП), Черноморской Ассоциации Упаковщиков Сельскохозяйственной Продукции, Пользующейся Особым Спросом (ЧАУСППОС), а также Западнобалтийскому Консультативному Совету по Восстановлению Исторической Справедливости в Отношении Лиц, Пострадавших от Революций, Землетрясений и Заболачивания Местности вследствие Движения Почвенных Пластов (ЗКСВИСОЛПРЗЗМДПП).
Семнадцатинедельная стипендия, великодушно предоставленная Трясиновским государственным университетом (ТряГУ), и бессрочный пропуск в Горисландскую (Горичанскую) национальную библиотеку (ГоНБиб) особенно споспешествовали переводчику.
Наконец, он считает нужным отдельно поблагодарить свою семью, которая наотрез отказалась последовать за ним в напряженную творческую командировку, а потому не мешала его кропотливым культуровзращивающим усилиям (и теперь уже не помешает никогда!).
Обращение к российскому читателю
Теперь, когда после более чем тысячелетнего нахождения на самой границе цивилизованного мира, а иногда и за его пределами, горичанский (горисландский) народ наконец-то присоединился – хочется думать, навечно! – к семье культурных наций, на повестку дня, как никогда ярко, встала необходимость познакомить окружающий мир с величественной историей и повседневной жизнью нашей страны, ввести наше славное отечество, так сказать, в гармонический ряд всемирного развития. С тем чтобы вовек с ним уже не порывать или, точнее, не диссонировать.
Пришло время воздать должное свершениям, подвигам и открытиям многочисленных горисландцев (горичан), доселе до обидного несправедливо скрытым от взоров прогрессивного и демократически развитого человечества. Не хочется думать (хотя кажется очень и очень вероятным), что это было результатом коварного заговора. Впрочем, отринем историографическую мелочность и сочтем недостойной, как и не совсем своевременной, возможность доказательного разоблачения тех политических сил, которые могли быть заинтересованы в таком состоянии вещей. Несмотря на то, что силы эти лишь притаились и по-прежнему бдят.
Однако примем для простоты, что единственной причиной культурного забвения нашей родины явилась причудливая и очень несчастливая для Горичании (Горисландии) историческая случайность (пусть последнее все-таки маловероятно, но мы настаиваем на том, чтобы оставаться по-европейски корректными, и не будем ни на кого указывать пальцем[2 - Хотя могли бы.])-
Этой цели – воздаянию должного и утверждению истины – и служит данная книга – опыт, быть может, скромный и несовершенный[3 - Не согласен (прим. перев.).], но необходимый[4 - Согласен (прим. перев.).], как все, создаваемое в первый раз. Опыт незамутненный, как все самобытное, свежий, как искренность, яркий, как радость, немного наивный, как улыбка юной горисландской девы, и в то же время несколько философичный, как ответная ухмылка столь же юного горичанина[5 - Согласен частично (прим. перев.).]. Полноводный, как Трясинка, приветливый, как Трясиновка.
Шутка ли: охватить под одной обложкой долгие века горисландского (горичанского) национального бытия, суметь густыми мазками трудолюбивого пера описать всю ширь и мощь духовного развития нашего народа. Конечно, здесь не обойтись без помарок и всякого рода мелких неточностей. Простите нас, что поделать! Знаем, но не можем иначе. Иного не дано – история не терпит отговорок. Кто не ошибается – никогда не издается (тем более в твердом переплете), а дорогу осилит тот, чей осел хорошо накормлен, как сказал один из великих горичан (горисландцев).
Поэтому – в путь, друзья мои! Не удивляйтесь предстоящим сюрпризам и откровениям, ибо вам суждено приоткрыть завесу умолчания над многими краеугольными событиями в истории человечества, ознакомиться заново с величайшими достижениями его культуры и науки, в которых горисландцы (горичане) неоднократно играли самую ведущую роль, но на которой, по врожденной скромности своей, они столь часто не настаивали. Однако это время позади, и хочется верить – навсегда.
Друзья, имейте в виду: вы стоите на пороге радикальной переоценки привычных ценностей и отказа от многих устаревших мифов! Как я вам завидую!
Но довольно предисловий! От имени и по поручению всего горичанского (горисландского) народа мне выпало особенное удовольствие распахнуть свои радушные объятия и заключить в них дорогих читателей.
Здравствуйте, любознательные мои!
Первый, всенародно и почти что единогласно избранный с соблюдением всех демократических процедур,
Президент Горисландии (Горичании)
Вассиан Лопата
Вступительное этнонимическое замечание
О двойственности названия горичанского (горисландского) народа и населяемой им территории
Спор о происхождении горичан ведется с раннего средневековья и по-прежнему далек от взаимоприемлемого разрешения. Таковы непреложные законы историографии, и не нам их нарушать. Вот и не будем, а изложим все по порядку.
Дело в том, что попавшие в наши земли не то в VH-м, не то в Х-м веке (нашей эры) латинские монахи были в большинстве своем немцами. Или, точнее сказать, германцами, то есть – людьми дотошными, но неглубокими, пусть овладевшими начатками некоторых наук, но все-таки достаточно формально, а главное – совсем не знавшими нашего образного и идиоматически богатого языка. Последнее резонно ставилось им в упрек многими новейшими критиками.
Уяснив, что автохтонная народность именует свое место обитания не то «Горем», не то «Горим», возможно, «Горьём», но не исключено, что и «Горьим», (некоторые, не вполне согласные между собой источники также указывают на «Горюм», «Горьюм» или «Горъюм»)[6 - Все топонимы даются в современной транскрипции (прим. перев.)], наши центральноевропейские братья, следуя тогдашним традициям, присоединили к сему названию старинное немецкое слово «земля» – ланд[7 - Иноземные слова и выражения, специфические горисландские термины, слова, употребление которых в русском и горичанском несколько разнится, а также прямые цитаты из речений исторических лиц выделены курсивом (прим. перев.).] и в симфонических поисках сочетания истины с благозвучием пришли к «Горисландии». Был ли при этом кто-то сожжен (от праславянского горети), и горевал ли кто от этого впоследствии особенно сильно, истории, к сожалению, не известно.
С другой стороны, нельзя полностью отвергнуть альтернативную версию событий, впервые выдвинутую около 100–150 лет назад, в период горисландского национального пробуждения и утреннего построения. Согласно ей, поводом к филологическим разысканиям и построениям первых христианских миссионеров послужило знакомство пришельцев с древним национальным горичанским напитком – обжигалкой[8 - Старогорич. – паленка.], от которой у них с непривычки внутри немного горело. Однако от названия Бренландия[9 - От немецкого Ьгеппеп, ср. также: Brenntwein – алкогольный напиток крепостью от сорока градусов и выше, производимый в ряде холодных стран.] педантичные патеры, отдадим им должное, кое-что соображавшие[10 - Несмотря на ряд сведений об обратном, существующих в постмодернистской критике.], удержались, ибо оно, с одной стороны, отчетливо напоминало о какой-то иной стране, а с другой – могло оскорбить национальные чувства древних и будущих горичан. Впрочем, не исключено, что на самом деле вышепоименованный и давно уже ставший нам родным топоним происходит всего лишь от слова горы (или народной горисландской игры в горелки), а все остальное – не более чем красивая легенда, выдуманная в недрах католической иерархии для оболванивания наших славных, но недалеких предков.
К счастью, в ту же самую историческую эпоху на защиту горичанской национальной уникальности смело выступили православные византийские монахи, считавшие своих латиноговорящих коллег исчадиями ада и вообще людьми не слишком образованными. Несмотря на собственную идейную ограниченность и религиозную косность, они выдвинули весьма прогрессивную для своего времени теорию о самобытности горичанского (горисландского) народа, из которой следовала полная невозможность придания нашему дорогому отечеству германоязычного наименования с использованием во всех отношениях чуждого и совершенно иноязычного слова ланд.
Посему в своих литературных трудах, пастырских посланиях, императорских рескриптах, списках военнообязанных и продовольственных разнарядках константинопольские греки всегда называли нашу милую землю словом «Горичания», что, как было установлено отечественными краеведами во времена национального возрождения, наиболее точно отвечает древним реалиям, а также фонетическим особенностям старогорисландского наречия.
Однако, к сожалению, все западноевропейские учебники географии и почвоведения, путеводители, справочники, ежегодники, военно-топографические карты, налоговые ведомости и бухгалтерские книги уже со времени Возрождения использовали название «Горисландия», что сделало полный отказ от него невозможным, в основном, по причинам чисто экономического характера. Вследствие этого, при вступлении в Организацию Объединенных Наций, Горичания (Горисландия) попросила все международные институты использовать в официальных документах оба наименования нашей суверенной отчизны, что делается и поныне. Особо обращаем внимание граждан стран Европейского Союза: не думайте, что в ваш круг стремятся сразу два государства, что могло бы негативно отразиться на финансах, налогах и тарифах Содружества. Отнюдь! Горисландия (Горичания) – это только одна страна!
1. Краткий очерк горичанской (горисландской) географии
Невелика и прекрасна наша родина. Не так уж широко, но весьма живописно раскинулись ее леса и долы, ровно посередине рассекаемые извилистой и прохладной Трясинкой, главной водной артерией страны, получившей свое название благодаря размеренному ходу и произрастающим по обеим ее сторонам камышам, тростникам, лилиям, кувшинкам, азалиям и прочим травам, способствующим судоходству.
В том месте, где Трясинка изгибается особенно резко и неожиданно и гордо выпячивающиеся холмы временно отступают от ее берегов, а покрытые яркими цветами и целебными травами опушки и поляны, прорезающие густые до дремучести и никем не тронутые леса, начинают шириться, тучнеть и постепенно переливаться в тщательно обработанные поля и ухоженные огороды, с незапамятных времен существовало человеческое поселение[11 - Археологам еще не удалось достигнуть древнейшего из его культурных слоев – они пока копают по самым верхам.]. Возникновение его восходит к глубинному началу начал цивилизации, к ее, точнее сказать, зарождению.
Немудрено, что в силу присущей нашему народу экономности[12 - А вовсе не из-за недостатка выдумки, как утверждают иные злонамеренные языки.], это поселение испокон веку носило название Трясиновка, а ныне является столицей наконец-то ото всех независимой Горичании (Горисландии).
Город Трясиновка компактен и просторен. Улицы его широки, но не слишком подавляют неподготовленных приезжих своими масштабами, они в меру пыльны, в меру утрамбованы, относительно свободны от мусора и нечистот. Заборы, плетни и изгороди уже который век содержатся в надлежащем порядке, придорожные канавы прилежно журчат в такт шагам прохожих, а центральная площадь вымощена наилучшим булыжником, произведенным прямо по соседству – в карьере на другом берегу реки. Это еще раз доказывает прозорливость и предусмотрительность наших славных предков, понимавших, что рано или поздно каменное строительство почти полностью заменит деревянное, а потому и основавших город в столь удобном месте.
Начиная с XIX-го века, горисландцы не раз пользовались благами сей природной каменоломни, хотя еще до того, в темном Средневековье, не одна горичанская баржа потонула, пытаясь доставить в Трясиновку максимально тяжелый груз[13 - Любовь к обоснованному риску и предприимчивость – еще две исконные национальные черты нашего народа.]. Обломки этих барж то и дело всплывают со дна, пугая купальщиков и случайных моряков, и привлекают на наши благодатные земли и мутные воды немало заинтересованных кладоискателей.
Климат в Горичании умеренный до противного, дожди, снега, ветры и жара чередуются с завидной регулярностью. Природные бедствия редки, град мягок, аллергический сезон неизвестен. Оттепели обычно наступают весной, а заморозки осенью. Зимой в Горисландии чаще всего холодно, а летом – не так холодно. Облачность невысока, влажность ограничена, а давление щадящее. Считается, что благодаря этому природному постоянству в национальном характере горисландцев (горичан) появились, а со временем закрепились такие черты, как неторопливость, обстоятельность, задумчивость, рассудительность, взвешенность, усидчивость, склонность к хоровому пению, справедливость, чистоплотность, остроумие и неизбывное стремление к прекрасному.
2. Горичанская мифология и космогония
Земля, согласно представлениям древних горисландцев, произошла из высохшей грязной воды, которая неведомыми путями пролилась в первородный пламень посредством мелкой струи (или нескольких струй – существует множество вариантов этого эпического рассказа, записанных различными исследователями), прямиком с высокого неба и в самые незапамятные времена. Небо же, в свою очередь, есть отражение мирового океана, поднявшегося до облаков, и по совместительству обитель бога дождя, который, по-видимому, занимал главенствующее положение в дохристианском, а потому варварском, но глубоко народном пантеоне античной Горичании. Связано это поверье было, судя по всему, с чрезвычайным значением, которое наши предки придавали природным осадкам и их последствиям, что свидетельствует о прочной материалистической традиции в горисландском мышлении, отразившейся и в горичанском национальном характере[14 - Любимые герои горисландцев – люди, крепко стоящие на своих ногах или, в крайнем случае, уверенно опирающиеся на что-нибудь устойчивое.].
Впрочем, и дальнейшая картина горисландского мироустройства, встающая из дошедших до нас обрывочных сказаний глубокой древности, сохранившихся на двух неровных клочках вытертого пергамента, который хранится в стокгольмской национальной библиотеке[15 - На неоднократные требования об их реституции наши шведские друзья ответили пресс-релизом, указывающим на то, что эти документы были подарены королю Карлу XII неизвестными во время его перехода из Польши в Турцию, о чем существует регистрационная запись от 17.. года, а потому они являются законной собственностью королевства. В этой связи Горичания думает о почерковедческой экспертизе и Европейском Суде, но еще не решилась.], представляется чрезвычайно логичной. Это наводит некоторых проницательных комментаторов на мысль о существовании уже в ту далекую эпоху развитой протогорисландской философской школы, обладавшей тонким понятийным и категориальным аппаратом, способным успешно оперировать в дописьменной среде.
В соответствии с этими, увы, очень фрагментарными сведениями, ночь и день – суть дети бога дождя, беспрерывно оспаривающие его первенство, но никак не могущие договорится о том, кто будет править после отца, отчего их планы о завоевании господства на небе все время проваливаются, обыкновенно в сумерках или на рассвете. Солнце – это пупок дня, а луна – какой-то иной (ученые не пришли к единому суждению) телесный орган ночи, подверженный, согласно воззрениям древних, как ежедневной, так и ежемесячной изменчивости. Ветер есть брат дождя и двоюродной брат снега, града и льда, а звезды – их общие сестры.
Родились же все они от брака времени с пустотой, что, кстати, представляется очень даже возможным согласно ряду недавних астрофизических теорий, получивших широкое признание. Поневоле поражаешься масштабу проникновения наших пращуров в бездны космологии и их интуитивным, но от того не менее точным научным прозрениям, заложившим, таким образом, твердую основу интеллектуального развития Горичании и определившим независимость горисландского национального самосознания, самопознания и самоощущения.
3. Древняя история
Начало начал горичанского народа теряется в толще времен. Происхождение его неизвестно, а культурный генезис ставит в тупик этнографов, антропологов и искусствоведов. Из данных археологических раскопок очевидно, что горичанская керамика мало чем уступает керамике греческой, шумерской, египетской и древнееврейской. Дошедшие до наших дней ее образцы, хранящиеся в запасниках лучших европейских музеев в виде черепков и фрагментов черепков, позволяют разделить древнюю горичанскую культуру на следующие отчетливые и равно творчески плодотворные периоды: примитивный, геометрический, постгеометрический и постпримитивный, последний из которых, согласно большинству вдумчивых комментаторов, продолжается и сейчас.
Недавние изыскания ведущих американских и западноевропейских ученых позволили пролить свет на еще более давнюю эпоху в истории нашего края и указать на отчетливую и несомненную всемирно-историческую роль древних горичан (горисландцев). В предкультурном слое одного из размытых недавними дождями местных холмов сотрудниками совместной экспедиции Дулонского католического колледжа и Женского института высших исследований в Бель-Тру, и до того проходившей, как заметил пожелавший остаться неизвестным ее участник в беседе с журналистами Трясиновского «Вестника», in a very stimulating atmosphere[16 - В обстановке полного взаимопонимания, проникнутой духом благожелательной дискуссионности (прим. перев.).], были обнаружены кольцеобразные отложения древесного угля. Датировка новооткрытых артефактов с помощью радиоуглеродного метода, а также ультразвуковой спектроскопии органических фракций солевых экстрактов, полученных путем глубокой перегонки, показала, что их возраст установить невозможно. Это, как легко догадаться, является серьезным аргументом в пользу того, что изобретение колеса было сделано нашими прямыми предками, по-видимому, преуспевшими также и в добывании огня[17 - Судя по всему, исключительно требовательный к себе древнего-ричанский экспериментатор неоднократно сжигал неудачные опытные образцы. Хороший урок нынешним, как правило, не столь бескомпромиссным изобретателям! Скрупулезность и упрямство – вот истинные родители совершенства.].
На последнее обстоятельство косвенно указывает большое количество хорошо обглоданных и тщательно высосанных костей различных животных, обнаруженных по соседству в том же слое предкультурной почвы и, можно сказать, в той же самой яме. Как справедливо заключают авторы недавней статьи в журнале L’Archeologie d’avant-hier et d’apres-demain[18 - «Археология – свершения и перспективы» (фр.).], руководители экспедиции профессора Эбеназер Эрнест Чаттербокс-младший и Филинн де ля Бет-Соваж, исключительно высокое качество обработки костных останков древних млекопитающих и птиц зубами и ногтями протогорисландцев (первогоричан)[19 - Следы этого на означенных костях очевидны даже для неквалифицированного наблюдателя.], с неотвратимостью свидетельствует в пользу высокого уровня первобытной цивилизации на землях нашего отечества. Как известно, степень культурного развития нации находится в прямой корреляции с глубиной прожарки пищи, которую ей удалось достигнуть[20 - Последнее верно и для настоящего времени.].
Причиной этого, так сказать, гастроспиритуального феномена является то, что для сыроядения нужны хорошо развитые челюсти и крепкий желудок, оттого эволюционным продуктом интенсивной варки, жарки и выпечки являются, наоборот, крепкие мозги и развитое обоняние. Поэтому можно заключить, что наши предки обладали тонким нюхом и способностью к не менее тонким суждениям. Некоторые из этих качеств не утрачены горичанами и по сей день.
4. Горисландия и древнегреческая колонизация
Греческая колонизация Горичании затруднялась погодными условиями, навигационными сложностями, культурными конфликтами, религиозными распрями и языковыми особенностями сторон. Отдельной помехой было полное отсутствие у Горисландии какой-либо береговой линии. Поэтому эллинизация нашей родины проходила в пульсирующем режиме, тяжело, чтоб не сказать мучительно, растянулась на длительное время и закончилось ничем.
Благодаря таковым обстоятельствам Горичания не приобрела тайных и темных культов, включая особо интересные женские и те, попроще, что связаны с человеческими жертвоприношениями[21 - Интересно, что и те и другие имеют самое прямое отношение к сельскому хозяйству.], избегла тирании, борьбы олигархов с народным собранием, а аристократов с демагогами, персидского нашествия, пелопонесских войн, завоевания Александром Македонским, неоднократного раздела и передела его наследства, вытекающих из этого распрей, разложения и распада, за которыми следовало вторжение римских легионов, сопровождавшееся грабежами и триумфами.
Все это можно было бы, конечно, пережить, хотя, конечно, обидно: могли бы на собственной шкуре узнать, в чем разница между эфорами и эфебами, апориями и апологиями, ойкосом и эйдосом. Вот мы и затаили обиду, а потом сжали зубы и с честью перенесли этот тяжелый период, поскольку уж нам-то не привыкать, с такой непростой историей. Только, вдобавок, Горисландия, к самому большому и искреннему сожалению, не сумела должным образом оценить и другие важнейшие достижения греческой цивилизации, как то: запрет на общественную деятельность женщин и приезжих из соседних деревень, всеобщее увлечение поэзией, спортом и театром, а в особенности – непрерывные политические страсти, иногда переходящие в демократические выборы и казни несогласных с их результатами, что время от времени заменяется изгнанием или крупным штрафом. Также не забудем занятия философией на свежем воздухе, помноженные на повсеместный интеллектуальный интерес бородатых мужчин к другим мужчинам, только более молодым, безусым и симпатичным, и разведение вина водой.
Теперь все это приходится наверстывать и усердно осваивать, дабы окончательно воссоединиться с культурным человечеством. С одной маленькой поправкой на современность – общественная деятельность ныне скорее запрещена мужчинам, но, в конце концов, не без резона же, как вы считаете? Нужно ведь как-то обращать международное внимание на то, какими семимильными шагами мы прогрессируем.
А вино у нас и так было не очень, если честно…
5. Столкновение Горичании с Римской империей
Горисландцы до невероятности успешно боролись с римской экспансией, поэтому свидетельств о ней не сохранилось. Тем не менее, представляется необходимым сделать по этому поводу ряд умозаключений и поделиться ими с читателем.
Ясно, что не обошлось без военной победы горичан над легионерами, планомерного охвата, рассеяния и раздробления многочисленных когорт, манипул и центурий и что победа эта была самой что ни есть полной и безусловной. Ведь меньшее бы Рим не остановило (и никогда не останавливало).
Может быть (и даже, скорее всего), этих побед было несколько. Более чем вероятно, что каждая из них была славнее предыдущей – масштаб совершенного очевиден хотя бы из того, что до сегодняшнего дня не удалось обнаружить ничего даже отдаленно римского не только в Горисландии, но и в ряде сопредельных стран, таким образом, спасенных ею от неизбежного порабощения и насильственного насаждения латинского языка (некоторые ученые полагают, что с первым еще можно было бы смириться).
Увы, где именно встретили свою участь отправившиеся завоевывать нашу родину несметные легионы, пока не представляется возможным установить с надлежащей точностью. Поэтому стремление ряда столичных патриотических организаций настоять на возведении величественного монумента, увековечивающего сию знаменательную оказию, наталкивается на обоснованные возражения организаций, не менее патриотических, но региональных и отчасти выборных, каждая из которых имеет свое суждение о месте бессмертного подвига древнегорцев (как их любовно называл один из поэтов новейшего времени) и согласно этому полагает, что таковой памятник должен находиться в пределах именно ее, а не чьей-либо еще юрисдикции. По состоянию на настоящий день эти споры разрешения отнюдь не имеют, а привлечение международного арбитража накладно, утомительно и все равно не способно никого примирить, когда дело идет об одной конкретной стране и одной конкретной проблеме. Отдельно отметим, что жалкие и одновременно ревизионистские попытки некоторых соседних государств обнаружить следы римского поражения или хотя бы римского присутствия на своей территории закончились закономерной неудачей. Еще бы! Мы же старались[22 - В лице наших предков, конечно.].
Когда имела место решительная битва между горичанами и гордыми, но отнюдь не непобедимыми сынами Ромула, на много веков определившая судьбу целого региона Европы, тоже неизвестно. Ясно одно – патриотический порыв горисландцев был безмерным, окружение пришлых властителей мира полным, его кольцо непреодолимым, а ожесточение односторонней резни – предельным. Из надменных захватчиков живым не ушел никто, и оттого римским источникам удалось временно – до сегодняшнего, но, надеемся, не до завтрашнего дня – замолчать это событие, чрезвычайно болезненное для престижа империи.
6. Горисландия в трудах классиков античной мысли и историографии
В связи с отдаленностью областей традиционной античной культуры от столь рано и столь высоко развившихся горичанских земель, греческие и римские путешественники редко попадали в наши родные пределы, а потому не оставили достоверных сведений о горисландских богах, героях, мыслителях и прочих выдающихся мужах отечественной древности. Впрочем, стоит упомянуть, что Тацит пишет о том, что на самом востоке Европы живут еще какие-то длинноволосые варвары. Таково наиболее прямое и очевидное упоминание нашей страны в знаменитых «Анналах». Надо подчеркнуть, мы теперь прекрасно знаем: великий историк был неправ – Европа заканчивается гораздо восточнее Горичании.
Сходным образом и Страбон говорит, что далее в глубинах лесов начинаются земли, населенные непонятно каким народом. Большинство современных комментаторов единодушны в том, что великий географ древности имел в виду нашу родину. С ним совершенно беспочвенно не соглашался Плиний Старший, утверждавший, что в тех лесах человеку жить совершенно невозможно и не нужно. Такое голословное отрицание существования древних горисландцев не делает чести известному философу, впрочем, использовавшему в «Естественной истории», как ныне признано, множество непроверенных данных. За это его в свое время справедливо критиковал блаженный Августин, в частности полагавший, что Господь в своей неизмеримой благости населил человеками и земли, самые для таковой жизни неприспособленные. Недавно стараниями южнокорейских ученых в полузаброшенном уэльском монастыре удалось обнаружить хорошо сохранившийся рукописный том сочинений гиппонского епископа, где против этой фразы почерком Иоанна Скота Эригены было написано: А я не уверен, а почерком Роджера Бэкона добавлено: Ну и зря!
Таким образом, как на заре европейской культуры, так и в раннем Средневековье судьбы нашего народа уже обсуждались ведущими умами эпохи и были предметом серьезных идейных дискуссий, онтологических схваток и полемических баталий, что оставило неизгладимые следы, как в канонических текстах, так и в маргиналиях. К сожалению, отец Церкви не дополнил вышеприведенное, безусловно, весьма глубокое и одновременно емкое суждение какими-либо подробностями или деталями, из которых его читатели могли бы вывести более точные сведения о прагоричанском быте и духовном мире.
Ныне общепризнано, что отсутствие подробного описания древней горисландской истории, многочисленных подвигов наших предков на ниве освоения своего природного ареала, а особенно их высочайших драматических и поэтических достижений[23 - К сожалению, оставшихся незапечатленными в письменной форме – потому об их несомненном существовании мы можем судить только по косвенным (пусть даже явным до очевидности) признакам.] значительно обедняет труды античных авторов, хотя и не перечеркивает их, в целом прогрессивный вклад в науку, находившуюся в те далекие времена на сравнительно невысоком методологическом уровне.
7. Народные сказки и сказочные персонажи
Любимым персонажем горисландского народа является дурак. Он, как правило, побеждает страшное трехголовое чудовище благодаря природной смекалке, вслед за чем находит в затопленной пещере сокровище и женится на спасенной им красавице. Или, наоборот, умывшись живой водой из подземного родника, сам становится писаным красавцем и женится на богатой. Или (обратите внимание на разнообразие фольклорных вариаций) сначала женится на богатой красивой дуре, после чего из отчаяния убивает чудовище и приобретает тем народную любовь и повсеместное уважение.
Но и это еще не исчерпывает изобилия горичанской народной фантазии, поскольку в некоторых сказочных сюжетах герой приобретает уважение сограждан (благодаря своевременной женитьбе на богатой) раньше, чем отправляется на битву с чудовищем. Однако все равно его убивает, пользуясь наставлениями заботливой матушки и заготовленным ею по дедовским рецептам черствым коржиком, который дракон сначала не может прожевать, а обломав зубы и все-таки проглотив, умирает в страшных мучениях от аллергической реакции на некоторые компоненты дедовских приправ.
Только уже спасает протагонист в таком случае от нечисти не красавицу, а скот незадачливых поселян, страдающий от загрязнения, вызванного продуктами драконьих отходов. После чего умнеет, перерабатывает тушу чудовища на колбасу, а его шкуру – на черепицу; чуть спустя, в результате нескольких удачных сделок с доверчивыми пастухами обзаводится многочисленным стадом баранов и, как следствие, проводит в дальнейшем долгую и счастливую жизнь в добром согласии с нежной супругою и в гармонии с природной средой.
Мораль: нет ничего целительнее и долговечнее, чем заслуженная тяжким трудом народная любовь.
8. Горичания и первые отшельники
Основы христианской культуры были заложены в Горисландии примерно две тысячи лет назад. Может быть, веком-другим позже, но не более того. В Ватиканских архивах находятся указания на отправку в пределы пограничные ряда проповедников, ни один из которых назад не вернулся и писем не отписал, а значит, их миссия увенчалась полным успехом. Иначе говоря, евангелизация наших земель никоим образом не отставала от христианизации остального человечества, а наоборот, обгоняла его большую часть.
В любом случае, народное предание с уверенностью утверждает, что в те незапамятные времена в Горичанию прибыл неизвестный и что двигался он неукоснительно, поступательно и равномерно, прямиком с болотистого, выжженного и бесплодного юга[24 - Не исключено, что все-таки за спиной у нашего заклинателя стоял умеренный, урожайный и плодотворный Запад – ученые пока не могут придти к единому мнению по данному вопросу, как и о том, могли ли протогоричане различать стороны света. Хотя врожденная любовь горисландцев к географии, очевидная до настоящего времени, кажется, неопровержимо указывает в пользу последнего утверждения.]. Пришелец долго бродил по лесу, подступающему к самой Трясинке, а потом нашел раскидистый дуб, забрался на него с помощью привязанных к ногам и рукам острых камней, залез в громадное дупло, ранее образовавшееся в силу естественных причин, и стал в нем жить, питаясь желудями, листьями и редкими птицами[25 - Ср. выражение «птичка божия», известное в ряде восточноевропейских языков.], время от времени раздвигая ветви и показываясь изумленным горисландцам.
Каждое явление народу обитатель дуба сопровождал громкими заклинаниями на неизвестном языке, после чего сразу или в течение нескольких дней, а иногда даже недель, в горисландских долинах обязательно менялась погода. Засуха уступала место дождям, а те, в свою очередь, снегам и метелям. Спустя несколько месяцев снег неизменно таял. Постепенно об этом, в высшей степени удивительном человеке стало известно всему горичанскому люду, и старейшины вместе с лучшими охотниками и следопытами собрались прямо под тем же деревом, дабы обсудить, к добру или нет появление незнакомца в исконной племенной чаще и как оно может отразиться на урожае зерновых, молочности коз и среднегодовом уровне воды в Трясинке.
После недолгих дебатов было решено, что пришелец является лесным божком значительной мощи или, по крайней мере, великим колдуном, а то, что он избрал местом своего пребывания горисландский лес, свидетельствует об его особом расположении к нашим родным долам и опушкам. На протяжении совета старейшин неизвестный несколько раз показывался из дупла, фыркал, плевался, и то и дело кричал на полюбившемся ему к тому времени горичанском наречии: «Покайтесь, окаянные!», – память о чем отечественный фольклор сохранил до наших дней. Некоторые исследователи безосновательно утверждали, что он также добавлял «У, нехристи туповатые!», но ныне эта легенда единогласно признается позднейшей контаминацией.
По единогласному мнению совета все нижние ветки дуба, по которым пришелец забрался в дупло, были обрублены горичанами, дабы лесной бог не мог покинуть наши благодатные места. Оставшиеся же сучки были стесаны до полной гладкости – обращаем внимание инвесторов и акционеров, до чего ревностен и старателен был горисландский народ уже в те далекие времена! Говорят, после этих событий наш отшельник не раз выбирался наружу при ясной луне, печально глядел вниз с двадцатиметровой высоты и восклицал «О, горе мне!» и трубно сморкался. Все это без сомнения свидетельствовало о правильности принятого горичанскими старшинами решения.