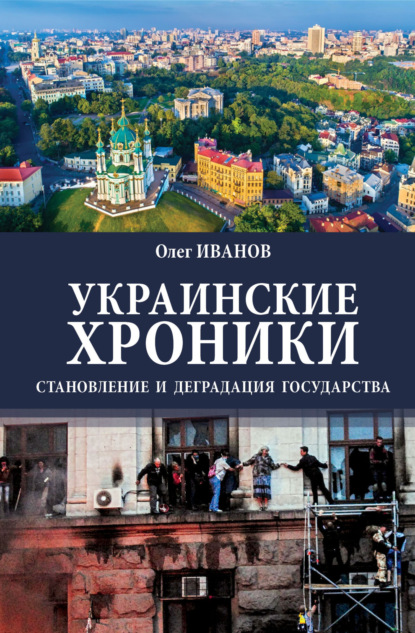
Полная версия:
Украинские хроники. Становление и деградация государства
Одновременно в СМИ, на съездах народных депутатов общесоюзного и республиканского уровня шла активная дискуссия о децентрализации власти в СССР вплоть до возможного выхода некоторых республик из СССР, юридическую возможность которого обеспечивала принятая в 1977 году Конституция СССР, в которой союзные республики объявлялись суверенными государствами, имевшими право на собственную политику и выход из СССР4. Долгие годы такое положение Основного закона воспринималось как формальность, и говорили о реальном суверенитете – т. е. отделении от СССР, приоритете республиканских законов над общесоюзными, собственном экономическом укладе и т. д. – исключительно националистически настроенные участники диссидентских движений: как локальных, так и «общесоюзного». Примечательно, что в плане выхода из СССР российские диссиденты поддерживали своих коллег по борьбе с советским строем из союзных республик. Эта поддержка была обусловлена двумя факторами: во-первых, антисоветское подполье приветствовало все, что так или иначе способствовало если не полному демонтажу советской системы, то хоть как-то затрудняло ее существование и портило репутацию власти как внутри страны, так и за ее пределами. Во-вторых, апелляция к нормам Конституции СССР была одной из основных тактик борьбы с советским строем – диссиденты постоянно заявляли, что советские органы власти нарушают собственный Основной закон, в котором декларировались, например, свобода вероисповедания или свобода печати и информации. Обращаясь к власти, диссиденты требовали соблюдения подобных норм, в числе которых были и право наций на самоопределение и упомянутый уже суверенитет союзных республик.
Во второй половине 1980‑х разговоры о новых формах отношений центра и союзных республик перестали считаться чем-то крамольным. Легитимизации этого дискурса способствовали и новые формы экономической деятельности – хозрасчет, кооперативное движение, декларируемая интенсификация производства и эффективности народного хозяйства; и обнародование разнообразных исторических документов (в том числе и грубых подделок), в которых сообщались разного рода нюансы вхождения республик в состав СССР, их исторических территорий, а также идеи репрессированных в 1930–1950‑е годы коммунистических и национальных лидеров союзных республик, далеко не всегда соответствовавшие историческим трактовкам, принятым в позднем СССР. Подобная информация производила на жителей республик Советского Союза сильное впечатление, приводившее к поиску своих этнических корней, попыткам реализации себя в качестве не просто титульной, а и главной этнической общности в своих республиках, которая, по мысли местных идеологов, должна была иметь большие привилегии, чем этнические меньшинства в республиках. «Наибольшую роль играл национализм союзнореспубликанских этнонаций. Он был направлен на создание или усиление привилегированного положения своей национальности и соответственно на подавление требований иноэтничного населения, – отмечает Сергей Чешко. – Его задачи вне республик состояли в обретении большей самостоятельности по отношению к союзной власти: это была самая общая цель, которая в разных республиках имела более или менее радикальное звучание. Характерная особенность этого вида национализма состояла в его антирусской направленности; трудно сказать, была ли это собственно русофобия или же перенос на русский народ советофобии: видимо, оба момента были неразделимы и тождественны»5.
Национальные диаспоры из-за рубежа восстанавливали связи с соотечественниками в СССР, создавали свои культурно-просветительские организации, где с помощью нехитрых манипуляций и подтасовок фактов интересующимся жителям республик внушались идеи национального превосходства на своей территории, а также представления о насильственном характере присоединения республик к СССР.
1.2. От разговоров к беспорядкам
К тому же, во второй половине 1980‑х в ряде республик СССР начались столкновения на этнической почве. Первое такое выступление произошло в столице Казахской ССР Алма-Ате в декабре 1986 года после того, как многолетний лидер ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев был снят со своего поста и отправлен на пенсию, а на его должность назначен первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Геннадий Колбин. Отставка Кунаева и назначение на его место партийного функционера из России вызвало возмущение республиканских элит, которое вылилось в массовые студенческие протесты на центральной площади Алма-Аты. Митинг 17 декабря 1986 года проходил под националистическими лозунгами, а попытка разогнать его силами милиции и КГБ привела к массовым беспорядкам, в результате которых погибли два сотрудника МВД и один демонстрант, более 1200 человек обратились за медицинской помощью, десятки милицейских автомобилей были сожжены. Около 200 участников волнений были исключены из высших учебных заведений, а в некоторых вузах было сменено руководство за развал идеологической работы, приведший к проявлениям национализма.
«События 16–19 декабря 1986 г. в Алма-Ате впервые стали не только предметом партийного разбирательства, но и объектом пристального внимания всего советского общества. Национальные проблемы после алма-атинских событий декабря 1986 г. и для власти, и для всего общества явились во всей их остроте и сложности. Скрывать национальные противоречия и продолжать представлять межнациональную сферу общественных отношений как беспроблемную после декабря 1986 г. уже не имело смысла, – пишет доктор исторических наук Анатолий Мякшев в статье «События в Алма-Ате декабре 1986 г.: первый ультиматум национальных элит центру». – Вместе с тем с «алма-атинских» событий следует вести отсчет началу открытой конфронтации республиканских элит с союзным Центром. Национальные элиты к декабрю 1986 г. прошли стадию «этнической» консолидации и мобилизации и готовы были открыто вступить в борьбу за безраздельную власть в «своих» государствах»6.
С 1987 года растет напряженность, а затем и начинаются боестолкновения между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе: армянская сторона требует передачи Армянской ССР Нагорно-Карабахской автономной области, входящей на тот момент в состав Азербайджанской ССР. В феврале 1988 года в Сумгаите Азербайджанской ССР происходят массовые беспорядки, сопровождающиеся волной насилия в отношении мирного армянского населения, в ходе которых погибли 32 человека. Азербайджанцам в свою очередь приходится покидать армянские села, где они жили поколениями. Борьба за территорию и этнические погромы способствуют росту национализма и в Армении, и в Азербайджане. Конфликт между ними затягивается на десятилетия, включает две войны (1992–1994, 2020), а его разрешение в 2023 году – вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и массовая миграция его жителей в Армению – вряд ли окажется окончательным, а не приведет к реваншу через несколько лет.
В июне 1989 года этнический конфликт приходит в Ферганскую долину Узбекской ССР: молодые узбеки нападают на турок-месхетинцев, компактно проживавших там после принудительной высылки из Грузии в 1944 году, избивают и грабят их. Помимо турок-месхетинцев, от погрома страдают и представители других этнических меньшинств – таджики, русские и крымские татары. Жертвами этих беспорядков становятся более 100 человек, среди которых представители более 10 национальностей. Остановить погромщиков удалось только с помощью внутренних войск, а правительству СССР пришлось пойти на беспрецедентные меры и эвакуировать турок-месхетинцев в Россию.
Горячей фазе конфликта предшествовала, так сказать, идеологическая подготовка. Еще в декабре 1988 года на многотысячном митинге в Ташкенте можно было видеть транспаранты вроде «Русские уезжайте в свою Россию, а крымские татары – в Крым», а в поселениях Ферганской долины распространялись листовки на узбекском языке с требованием «очистить от турок Ферганскую долину».
18 марта 1989 года на сходе в селе Лыхны Абхазской автономной республики, входившей в состав Грузинской ССР, 30 тысяч местных жителей потребовали выхода Абхазии из состава Грузии и восстановлению ее в статусе союзной республики в составе СССР, которой она де-юре являлась до 1931 года. В связи с этим представители различных грузинских общественных организаций устроили многодневный несанкционированный митинг перед домом правительства в Тбилиси. К 6 апреля 1989 года выступления его участников, в числе которых был и будущий первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, приобрели откровенно антисоветский характер, стали выдвигаться требования о выходе из состава СССР. В это же время организаторы митинга стали собирать отряды, которые вооружались палками, камнями, цепями и другими подручными средствами. Был начат сбор средств для приобретения огнестрельного оружия. Общее количество участников митингов на ограниченных территориях у Дома правительства и здания телестудии составило по приближенным оценкам 8—10 тысяч человек. Руководство республики считало, что справиться с массовыми выступлениями населения, имеющимися наличными силами внутренних войск и милиции невозможно; такое мероприятие можно было осуществить при условии введения комендантского часа, для чего необходимо привлечь дополнительные воинские подразделения. Поэтому им было принято решение обратиться за помощью к союзным органам. В Тбилиси были направлены части Советской армии: 4‑й мотострелковый полк ОМСДОН Внутренних войск (650 человек), воздушно-десантный полк (440 человек), отряды ОМОНа и милиции из разных городов. Митинг был оцеплен войсками и милицией. В 2 часа 30 минут 9 апреля к митингующим обратился начальник УВД г. Тбилиси полковник Гвенцадзе с призывом разойтись. Затем к митингующим обратился Католикос Грузии Илия II.
После неоднократных призывов разойтись по домам к протестующим была применена сила. В 4 часа утра 9 апреля генерал Игорь Родионов приказал начать вытеснение митингующих с площади. С выходом войск на исходные позиции митингующие начали покидать площадь, однако достаточного времени на их рассредоточение не было предоставлено. При этом не было также принято во внимание и то, что почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом, т. е. пути эвакуации были резко ограничены. В результате возникла паника и массовая давка. 6 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Как установила судебно-медицинская комиссия, причиной смерти всех, кроме одного, погибших являлась асфиксия в результате сдавливания грудной клетки в толпе.
Для расследования событий, происшедших в грузинской столице 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, председателем которой был избран Анатолий Собчак. Комиссия отметила, что предпосылки трагических событий в Тбилиси складывались на протяжении длительного времени. В них проявились кризисные явления, охватившие многие сферы государственного управления и общественной жизни в республике и в стране в целом. Также комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
Однако противостояние центральных властей Грузии и Абхазской АССР на этом не закончилось, и 15–16 июля 1989 года в Сухуми произошли кровавые столкновения между грузинами и абхазами (16 погибших). Руководство республики тогда сумело урегулировать конфликт и произошедшее осталось без серьезных последствий.
Трагические события в Тбилиси 9 апреля 1989 года послужили нагнетанию в республике антирусских настроений, а также способствовали дальнейшему расшатыванию центральной власти. Официальная советская пропаганда скрывала тот факт, что организаторы митинга требовали выхода республики из СССР, собирали подписи под обращением к Конгрессу США, в котором участники митинга просили: «1. Приурочить одно из заседаний ООН ко Дню суверенной Грузии – 26 мая. 2. Признать 25 февраля 1921 года днем оккупации Грузии большевистскими силами России. 3. Оказать помощь Грузии для выхода из состава Союза, в том числе путем ввода войск НАТО или ООН». В СМИ, а потом и в заключении депутатской комиссии сообщалось, что массовые выступления в Тбилиси были посвящены внутренним проблемам республики, а центральные власти неправомерно применили силу к протестующим. Таким образом в глазах советских граждан создавался образ репрессивной власти, готовой растерзать мирных жителей всего лишь за выражение своего несогласия с происходящими событиями, а также вызывалось сочувствие к участникам протестов. А вокруг доклада депутатской комиссии ходило множество ужасающих слухов: об избиении мирных протестующих саперными лопатками, применении отравляющих газов, избиении женщин и стариков и т. п., впоследствии не нашедших подтверждения.
В Грузинской ССР волнения 9 апреля 1989 года привели к легитимизации национализма и заявлений о выходе из СССР. Характерным выглядит такой факт: сразу после 9 апреля в отношении организаторов митинга Звиада Гамсахурдии, Мераба Коставы, Георгия Чантурии и др. было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено уже через несколько месяцев «ввиду изменения обстановки».
Действительно, обстановка и политическая, и моральная в СССР в те годы менялась постоянно: идеи передачи разного типа полномочий союзного центра республикам пропагандировалась в СМИ и звучала с трибун пленумов и съездов всех уровней – причем обусловлены эти требования были не какой-либо экономической или социальной необходимостью, а исключительно желанием национальных элит получить больше власти и автономии от центральной власти. Причем для демонстрации центру собственных сил национальные элиты актуализировали и подогревали межэтнические противоречия, которые приводили к массовым выступлениям, зачастую сопровождавшимися погромами и человеческими жертвами. Подавлять эти беспорядки вынуждена была Советская армия, что еще больше настраивало население против центральной власти.
«Все лето 1989 года национальные проблемы держали общество в напряжении», – вспоминал Михаил Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы»7. Горбачев предполагал, что «кто-то в эшелонах власти республик подзуживает, разжигает страсти». Однако ничего, кроме силового подавления конфликтов, власть предложить не могла: еще в июне 1988 года генсек ЦК КПСС заметил, что руководство партии и государства «не станет поддерживать один народ в ущерб другому». То есть, приводить элиты разных республик к компромиссам в территориальных и других спорах центральные власти не хотели или не могли, им оставался только уже упомянутый путь силового разрешения противостояний, однако в условиях перестройки и гласности такой способ лишь способствовал усилению недоверия к союзному центру, росту националистических настроений и влияния местных элит, которым приходилось «разруливать» проблемы этнических общин на местах. Часто, впрочем, эти проблемы были спровоцированы сами республиканскими властями.
В июне 1990 года в городе Ош Ферганской долины Киргизской ССР начались массовые столкновения между киргизами и узбеками. Исторически сложилось так, что на этой территории киргизы являлись национальным меньшинством, а узбеки составляли в городах Ош и Узген большинство населения. Более того, узбеки занимались сельским хозяйством, а киргизы вели полукочевой образ жизни. В конце 1980‑х киргизы начали требовать предоставить им земли, пригодные для оседлой жизни и занятий сельским хозяйством, узбеки были этим недовольны. Конфликт вспыхнул вокруг земли колхоза имени Ленина, 95 % работников которого были узбеками. За месяц до волнений, в мае, киргизская молодежь потребовала предоставить ей землю колхоза. Представители городских властей, также в основном киргизы по происхождению, сначала дали добро, однако через несколько дней отменили собственное решение.
4 июня 1989 года представители узбекской и киргизской общин собрались на спорном поле: с одной стороны, стояли 1500 киргизов, с другой – 10 000 узбеков. Между ними встали представители правоохранительных органов и, несмотря на агрессивное поведение обеих сторон – в милиционеров летели палки, камни и т. д. – не допустили драки «стенка на стенку». Для этого, правда, им пришлось по толпе открыть огонь. На следующий день, 5 июня, в город стянулись многочисленные группы киргизов из сельской местности. По пути они избивали и убивали узбеков. Одновременно узбекский анклав Узген был «очищен от приезжих»: практически всех киргизов насильно заставили покинуть город. За счет вновь прибывших из других районов и Андижана Узбекской ССР количество узбеков увеличилось до 20 000 человек. В ответ вооруженный отряд киргизов в ночь на 6 июня спустился с гор, вошел в Узген и атаковал узбеков. Вновь пролилась кровь.
По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте погибли около 300 человек. Тысячи получили ранения, порядка 500 отправились под арест. Сожжению и разграблению подверглись несколько сотен домов. Если верить неофициальным источникам, число жертв столкновений в Ошской области исчислялось тысячами – и могло доходить до 10 тыс. человек. Отдельные вспышки насилия фиксировались вплоть до августа.
Приостановить столкновения удалось только к вечеру 6 июня, после того как в Ошскую область вошли подразделения Советской армии, которым пришлось вступить в бой с вооруженной толпой, прорывавшейся в Ош. «Ценой огромных усилий армии и милиции удалось избежать вовлечения населения Узбекистана в конфликт на территории Киргизской ССР. Поход вооруженных узбеков из городов Наманган и Андижан в Ош был остановлен в нескольких десятках километров от города. Были зафиксированы случаи столкновений с армейскими подразделениями. Тогда перед рвущимися в Киргизию узбеками выступили главные политические и религиозные деятели Узбекской ССР, что помогло избежать дальнейших жертв»8, – констатировал в своей книге «Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР» историк Михаил Жирохов.
«Спусковым крючком» обострения межэтнических отношений в Киргизской ССР стало принятое в 1989 году решение Верховного суда Киргизии о замене русского языка на киргизский в качестве официального языка КССР. Это решение уязвило узбекскую общину Киргизии и подтолкнуло к созданию организации «Адолат», выступавшей, среди прочего, за создание Ошской автономной области и за справедливое представительство узбеков в государственных структурах. Языковой вопрос в союзных республиках до и после распада СССР вообще оказывался катализатором эскалации многих до поры скрытых социально-политических и хозяйственных конфликтов. Ущемление прав на применение в публичной сфере родных языков этнических общин родного и/или русского языка мгновенно вскрывает латентные противоречия между разными социальными группами, а также между обществом и властью.
Особенно жестко на выходе из СССР настаивали в Литовской и Латвийской ССР – если в среднеазиатских и закавказских республиках речь в первую очередь шла о перераспределении полномочий между центром и местными элитами, то в прибалтийских республиках публично заговорили о независимости с самого начала объявленной Михаилом Горбачевым гласности. Уже в октябре 1988 года в Литве было создано общественно-политическое Движение за перестройку («Саюдис»), выступавшее за выход республики из состава Советского Союза, а в феврале 1990‑го его кандидаты выиграли выборы в Верховный совет Литвы. Глава движения Витаутас Ландсбергис был избран его председателем. Таким образом в Литве возникло двоевластие: действовали государственные и партийные структуры, выполнявшие законы СССР, и одновременно формировались республиканские органы власти, не подчинявшиеся им. Население республики также оказалось разделенным – многие не хотели, чтобы Литва выходила из СССР, учитывая провозглашенную политику перестройки. В феврале и мае 1990 года депутаты проголосовали за Акт о восстановлении независимого литовского государства и Декларацию о государственном суверенитете Литвы, что вызвало негативную реакцию в Москве. В январе 1991 года ситуация в республике обострилась из-за повышения цен и последовавших антиправительственных выступлений. В ответ активисты «Саюдиса» призвали приверженцев независимости Литвы «для защиты власти» круглосуточно дежурить у зданий парламента, правительства, радиоцентра и Вильнюсской телебашни. На телевидении и радио началась трансляция программ антисоветской направленности.
Опасаясь потерять контроль над ситуацией, 11 января ЦК Литовской Компартии сформировал Комитет национального спасения (действовал до конца января), который взял на себя ответственность за урегулирование кризиса. После нескольких попыток убедить лидеров «Саюдиса» прекратить антисоветскую пропаганду и «искусственно нагнетать напряженность» комитет обратился за помощью по установлению контроля над телевидением и радио к МВД СССР и руководству Вильнюсского гарнизона. В Литву были направлены военнослужащие спецподразделения «Альфа» и части ВДВ. 12 января советские солдаты взяли под контроль ряд объектов в Вильнюсе.
У телебашни несли дежурство до 5 тыс. человек, включая вооруженных сотрудников службы безопасности республики. Дороги к телецентру были перекрыты грузовыми машинами и другой техникой. В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфы» штурмом взяла телецентр и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, включая офицера «Альфы» Виктора Шатских (смертельно ранен выстрелом в спину). Пострадали, по разным оценкам, от 500 до 700 человек, большая часть – в результате давки, возникшей после предупредительных выстрелов прибывших к зданию телецентра танков. Президент СССР Михаил Горбачев и министр обороны Дмитрий Язов заявили о своей непричастности к действиям военнослужащих. Однако, по оценке следствия, люди у телебашни были убиты советскими солдатами. Впрочем, ветераны «Альфы» настаивали на том, что при штурме использовались холостые патроны, а огонь на поражение велся снайперами с крыш домов. «Неизвестные снайперы» вообще часто используются организаторами «цветных революций» и государственных переворотов для превращения уличных противостояний в кровопролитие, а также иллюстрации «зверств режима» в мировых СМИ. «Можно утверждать, что развал СССР начался со снайперского огня в Вильнюсе, когда в стрельбе по демонстрантам обвинили советских военных, – пишет юрист Максим Мирошниченко в статье «Роль частных военных компаний и «неизвестных» снайперов в осуществлении «цветных революций». – Правда, новая литовская власть долгое время старательно замалчивала тот факт, что выстрелы были сделаны из новейших винтовок «маузер», не состоявших на вооружении Советской армии и спецслужб»9.
События у вильнюсской телебашни вызвали большой резонанс в Советском Союзе и мире, их тогдашняя официальная версия стала весомым аргументом в пользу объявления Литвой независимости.
Похожим образом развивались события в Латвийской ССР. 4 мая 1990‑го Верховный совет республики принял Декларацию о восстановлении независимости, и в стране так же, как и в соседней Литве, возникло двоевластие: действовали все структуры СССР, а парламент и правительство формировали параллельно структуры Латвийской Республики. В частности, одновременно функционировали отряды милиции, подчинявшиеся МВД Латвийской Республики, и отряды милиции особого назначения, находившиеся в ведении МВД СССР. Сосуществование силовых структур с разными центрами управления не могло не привести к конфликту. Он разразился в начале января 1991 года. 2 января по приказу МВД СССР и по просьбе ЦК Коммунистической партии Латвии подразделение рижского ОМОНа «Черные береты» взяли под контроль рижский Дом печати – партийное издательство, национализированное правительством Латвии. 13 января, после получения информации о занятии советскими войсками телецентра в столице Литвы городе Вильнюсе, была созвана дума Народного Фронта Латвии (НФЛ), принявшая решение о ненасильственном сопротивлении. После призыва собраться на вселатвийскую манифестацию в Ригу в течение нескольких часов съехалось более полумиллиона человек со всей республики. В ночь с 13 на 14 января на улицах города были возведены баррикады. Сигналом к началу сопротивления стал костер, который загорелся на Домской площади.
В тот же день пленум ЦК компартии Латвии обратился к президенту СССР Михаилу Горбачеву с просьбой ввести президентское правление. Но это решение не было осуществлено, так как Горбачев не санкционировал применение силы.
Противостояние манифестантов и ОМОНа продолжалось больше двух недель и завершилось штурмом здания МВД республики, в ходе которого погибли сотрудники МВД: старший участковый инспектор Сергей Кононенко и лейтенант милиции Владимир Гомонович. В соседнем парке шальная пуля сразила режиссера-кинодокументалиста Андриса Слапиньша, был смертельно ранен кинооператор Гвидо Звайгзне, убит школьник Эдийс Риекстиньш, 8 человек ранены.
Так же, как вильнюсские события, столкновения в Риге укрепили жителей республик в необходимости если не выхода из СССР, то серьезного перераспределения полномочий и создания собственных структур общественной безопасности, подчиняющихся местным властям. Тем более что в самом начале 1990‑х у союзной власти уже не хватало сил сохранять порядок «на окраинах» страны. «В условиях расширяющейся и углубляющейся конфронтации и борьбы за власть союзное руководство стремилось овладеть всеми ресурсами в масштабах единой страны и «оттеснить» национальные элиты от предстоящего дележа собственности, – пишет Анатолий Мякшев. – Могущество национальных кланов в республиках при этом недооценивалось, мобилизующая роль этнонационализма в расчет не принималась»10. В то время как при снижении руководящей роли КПСС в обществе и падении ее авторитета именно этнонационалистические структуры и воззрения казались гражданам СССР наиболее привлекательными для решения собственных жизненных задач, обретения новых статусов в обществе, реализации давних творческих и бизнес-идей. Об этом же пишет и Сергей Чешко: «Соединение российского необольшевистского радикализма с этнонационализмом союзнореспубликанских этнических элит создало мощную оппозицию политике Горбачева и угрозу целостности государства и общества. Главным мотивом действий этой объединенной оппозиции была борьба за власть – в России для первых и в своих республиках для вторых. Основную роль в развале СССР сыграли действия российских радикалов во главе с Ельциным, которые систематически подрывали союзную власть «изнутри» и активно поддерживали национал-сепаратистов в других республиках. Главную же «стратегическую» роль сыграл этнонационализм, взращиванием которого десятилетиями занималось само советское государство. «Отмена» СССР в декабре 1991 г. явилась не столько выражением каких-то объективных процессов, сколько стечением многих обстоятельств, финалом которых явился акт политического насилия над страной со стороны альянса радикалов и националистов»11.



