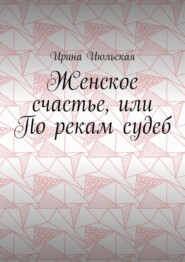
Полная версия:
Женское счастье, или По рекам судеб
– Как здорово! Я возьму с собой учебники и буду заниматься! —
– Ты, по-прежнему, на журфак? – Поинтересовалась мать.
– Нет, мама. Я хочу быть медиком. Хочу стать врачом, как ты.
Ирина, внимательно вглядываясь в дочь:
– Ты хорошо все взвесила? Медицина – это боль, страдания, к этому трудно привыкнуть. —
Света, утвердительно кивнула:
– Мамочка, я почти год в госпитале проработала и работу бросать не собираюсь. Пойду на вечернее. —
– В таком случае, собирай вещи, учебники. Я попрошу оформить отпуск нам двоим. —
Света обрадовано обняла и поцеловала мать:
– Мамочка, как нам будет хорошо вместе на речку ходить, в огороде копаться. Как я люблю деревенскую жизнь! —
Мать, наконец, улыбнулась:
– Решено, едем! —
И вот они в деревне у своей любимой бабушки Тони, которая еще до войны жила здесь и училась в старой деревенской школе, ее деревянное здание в окружении рябин стоит до сих пор. В этой школе училась ее мама Ирина. Света и сама проводила в Холщевиках свои школьные каникулы. Многие жители деревни для них как родня и искренне радуются, когда они с мамой приезжают из Москвы погостить. К ним обращаются с какими-то просьбами и не только медицинского характера, но и чисто бытовыми; что-то купить, привезти или просто посоветоваться. А если что, то и сами всегда придут на помощь. Люди в поселке добрые, отзывчивые, да и Куприяновы таковы; что бабушка, что мама с дочкой. Это их истоки, их малая Родина. В старом отчем доме многое хранит память детства Ирины и ее матери Антонины: вышитые их детскими руками подушечки, куколки, вязанные салфетки. Все это теперь бережно сохраняется бабушкой, как когда-то хранилось тетей Марией, заменившей Антонине мать.
Родилась Антонина в Москве, в 1923 году. Ее мать Лидия рано овдовела, отец Павел после тяжелого ранения, полученного на Гражданской войне, прожил недолго и умер в возрасте двадцати шести лет. Его дочке Антонине было года три, когда мать вышла замуж во второй раз за друга своего умершего мужа, с которым он воевал в РККА на Гражданской войне. Григорий был старше Павла на семь лет, он был его командиром, наставником и надежным товарищем. Держась рядом, они становились вдвое сильнее; простой деревенский парень с рязаньщины Павел и опытный командир Григорий, родом из Москвы.
Лидия была в их отряде не только сестрой милосердия, но и действующей боевой единицей, выражаясь в духе того времени. Она была способна в нужный момент подменить собой бойца, сев за пулемет «Максим», могла палить по белым из винтовки или нагана. После окончания курсов сестер милосердия молоденькая Лида попала на фронт, где повстречала деревенского парня, своего ровесника Павла и выпускника московского университета Григория. Всю Гражданскую они прошли бок о бок. В девушку были влюблены оба друга: простоватый Павел и умный, образованный Григорий.
А Лида? Она сама себе боялась признаться в любви к Григорию, считала себя, полуграмотную, ему неровней. Когда Павла тяжело ранило в бою, откуда его на себе вытащил Григорий, Лида день и ночь не отходила от раненого и он вернулся с того света только благодаря Лиде и огромному к ней чувству. Вот тогда она поняла, что судьба ее решена и сказала свое «Да» Павлу, чем окончательно и бесповоротно вернула его в жизнь, заставив захотеть жить в мире, где есть она.
Григорий стоически молчал и ни разу не позволил себе намекнуть о своих чувствах ни самой девушке, ни другу. Он, взращенный на лучших мировых образцах литературы, был способен на такое благородное молчание, на такую жертвенность. Павлу, да и самой Лиде, было невдомек, что творилось в душе их друга и командира. Григорий сам скрепил их семейный союз фронтовой печатью и сидел за свадебным столом с его нехитрым угощением. И был тогда межу ним и Лидой всего лишь только один взгляд, который они подарили друг другу, но оба навсегда запомнили этот взгляд, который был гораздо красноречивее слов.
Войны имеют счастье заканчиваться. В 1922 году закончилась братоубийственная Гражданская война. Павел с Лидой к тому времени уже обосновались в Москве, куда им помог перебраться все тот же Григорий. Из письма соседей Павел узнал, что дом его родителей в деревне Лозинка Скопинского уезда сгорел дотла и возвращаться с беременной женой ему было некуда. Так волею судеб и с помощью друга Григория они и оказались в Москве.
У родителей Григория до революции был небольшой особняк в центре Москвы, в районе Новинского бульвара, где с ними соседствовали знаменитые адвокаты, музыканты, а также выходцы из высших кругов света – элита московского общества. Чудом уцелевший дом, был до отказа заселен жильцами и к возвращению с Гражданской Григория, а с ним и семьи его фронтового товарища, жилотдел выделил им две крохотные комнатушки в полуподвале. Одну побольше Григорий уступил семье Павла, а вторую, бывшую кладовку с крохотным оконцем занял сам.
Времена были суровые, холодные и голодные. Грамотные люди были наперечет, квалифицированных кадров не хватало. Григорий, несмотря на дворянское происхождение и благодаря своему незапятнанному участию на стороне Красных в Гражданскую войну, был принят на работу в Генеральный штаб РККА. Он занял там ответственный пост с положенным ему по занимаемой должности продовольственным пайком. Этим пайком он и делился с семьей фронтового друга, состоящей из трех человек: постоянно болеющего Павла, Лидии и малышки Тони. Лида работала в московской больнице сестрой милосердия, но ее заработка хватало лишь на дрова и молоко для дочурки.
После безвременной смерти мужа Лидия быстро вышла замуж за Григория, которого давно любила. От их семейного союза родилось двое детей: сын Святослав 1927г.р. и дочь Вера 1935г. р. К моменту рождения дочери жили они уже в новом доме, построенном для высшего военного руководства страны. В квартире из трех просторных комнат были все удобства, включая ванну с газовой колонкой, что в те времена было только для избранных. Простые люди ходили в бани, в которые еще надо было и очередь отстоять, да с бельем в корзинах или узлах, с тазами, шайками или кувшинами для помывки. А еще и с детьми и стариками… Поход в баню сопровождался большим напряжением сил и затрат энергии, но все быстро забывалось после волшебно-очищающего воздействия воды, пара и мочалок из ароматного липового лыка, которыми натирали друг другу спины до багрово-красного цвета. Выход людей из бань был неторопливо-расслабленным, как до революции, так и после. Тело нуждается в чистоте при любом режиме власти. Баня тоже стратегический объект, важная часть жизни человека, как на фронте, так и в мирной жизни.
Тоня к тому времени была уже двенадцатилетним крепким подростком, когда неожиданно заболела сестра Лидии – Мария, работавшая в подмосковном колхозе, где ей частенько приходилось поднимать тяжести. Привязался к ней ревматизм и другие недуги. Так одинокая Мария оказалась совсем беспомощной в своем деревенском доме с его удобствами на дворе и водой в колодце, а еще и корову доить надо было, да и куры тоже имелись в ее небольшом хозяйстве.
Лиде тогда пришлось решиться на непростой поступок. Она отослала к сестре в помощь свою старшую дочь Тоню, искренне любившую и жалевшую тетю Машу, у которой проводила все свои летние каникулы.
Судьба, как известно, сама плетет свои кружева и она изо всей семьи Лидии и Григория в живых оставила только Антонину. Отчим Григорий погиб на фронте в первый же год Великой Отечественной Войны, а мать с двумя детьми попала под бомбежку поезда, в котором ехала к сестре и старшей дочери летом 1941 года. Так, волею все той же судьбы, Антонина из Москвы перебралась в Подмосковье и осталась жить вдвоем с теткой, заменившей ей мать.
После таких тяжелейших потерь Тоня, которой едва исполнилось восемнадцать лет, поступила на ускоренные курсы медсестер, по окончании которых ушла на фронт служить санинструктором. Затем поступила медсестрой в военный госпиталь, где и познакомилась с молодым врачом Захаровым Владимиром Александровичем или просто Володей, как его тогда звали коллеги. Владимир был призван с 5 курса московского мединститута на фронт и работал под руководством старого опытного хирурга, прошедшего Первую мировую войну. Быстро набравшись опыта у военного хирурга, Владимир Захаров взял себе в помощь молоденькую санинструкторшу Тоню Чернецову и со временем сделал из нее настоящую операционную медсестру, незаменимую на его операциях. Когда закончилась война и Захаров поступил в военный госпиталь им. Бурденко, позвал он с собой и Тоню, но та после фронта решила вернуться к тете Марии в свою подмосковную деревню Холщевики, где устроилась медсестрой в колхозный медпункт.
Веской причиной вернуться в деревню к тетке было то, что к тому времени у Антонины была уже маленькая дочь Ирина, которую она оставила на попечение Марии сразу после ее рождения в самый разгар войны в 1943 году. Но об этом подробно будет рассказано несколько позднее.
Глава 14 Бабушка и родная деревня
Бабушка встречала их на крыльце старого дома, с высокими кустами золотых шаров, слегка поникшими после недавнего дождя. На бабушке было платье с фартуком из сатина и косынка, скрывающая седину волос. Все это делало из Антонины Павловны деревенскую старушку. На взгляд ей можно было дать лет шестьдесят и даже больше, хотя ей еще только недавно исполнилось пятьдесят шесть лет, по нынешним меркам далеко нестарая женщина, а тогда, в конце 70-х, уже довольно пожилой человек.
Был у их бабушки один секрет, которым она после смерти Рэма Михайловича перестала пользоваться. Секрет состоял в том, что бабушка умела преображаться, да так, что в одночасье молодела лет этак на десять… Стоило ей покрасить свои седые волосы в золотисто-блондинистые тона и соорудить «фирменную» прическу, – пучок-ракушку из своих пышных от природы волос, нанести немного пудры на лицо и совсем чуть-чуть розовой помады на щеки и губы. Затем она доставала из шкафа одно из модных платьев, сшитых своими руками и облачась в него, становилась действительно лет на десять моложе. Вкус у нее был от природы, шила она ловко и быстро.
Но главным козырем у бабушки были все же ноги. Когда был жив ее Рэм Михайлович, она любила выйти «в свет», прогуляться с ним под руку по деревенским улочкам в туфлях на каблучках. Рэм, знавший Антонину еще со школьных времен, смотрел на нее влюбленными глазами и видел в ней все ту же Тоню, какой она была в их общей юности. Овдовев и немного погоревав о жене, Рэм пришел к порогу своей первой любви Антонины. В свое время война и фронт развели их по разные линии жизни, но судьба, сделав петлю во времени, соединила их, уже пятидесятилетних и дала пять лет прожить в любви, уважении и согласии до самой смерти Рэма Михайловича.
Отставник, капитан 1-го ранга Старшинов Рэм Михайлович, по горячим просьбам односельчан и их единогласному голосованию на деревенском сходе, возглавил колхоз «Светлый путь», таким образом стал председателем уже разменяв шестой десяток. Проработал он на этом посту более пяти лет и добился немалых успехов, но то ли возросшая не по годам нагрузка, то ли сердце уже немолодого бывшего подводника подвело, а может все и сразу, но умер он в одночасье на своем рабочем месте, когда Антонина была на приеме в медпункте. Смерть была мгновенной, оторвался тромб, он даже не успел позвать на помощь секретаршу за тонкой перегородкой, отделявшей его кабинет.
Вот с тех пор Антонина и перестала прихорашиваться, быстро превращаясь в старушку. Единственное, что спасало и согревало ее душу, так это уважение и любовь односельчан и, конечно, дорогих ее дочери и внучки. Но у них своя жизнь в Москве и хоть езды до Холщевиков всего час на электричке, да и ходу от станции километра два, не больше, но часто не наездишься. Дочь много работает, да и внучка тоже. А сегодня у Антонины радость и она вышла встречать своих дорогих людей. Вот они идут к ней по бетонке, к их дому почти на краю деревни. Антонина Павловна с порога дома махнула им рукой.
– Идут ее девчонки и сумки как всегда несут. Уж сколько раз говорила, не везите много, но все бесполезно. Да и как в деревню приехать с пустыми руками? Сейчас набегут к ним деревенские, у всех старики, дети, будет обмен гостинцами, затем накроют стол, а в печи уже готов запеченный гусь и на столе гора пирогов, испеченных их матерью и бабушкой. Конечно, придут соседи, подруги Ирины с детских лет, а вот ее ровесники стали потихоньку уходить и на деревенском кладбище за оградами, покрашенными голубой краской, все больше свежих могил. – С такими мыслями встречала своих дорогих гостей, стоя на крыльце родимого дома, бабушка Антонина.
Она вздохнула, вспомнив Рэма: – Сейчас бы он довез их на своей машине и не тащили бы они сумки от станции. Хорошо, что им знакомы обходные пути, идут через лес, а это путь короткий. —
После смерти мужа Рэма приезжал из Москвы его сын и забрал их новые «Жигули». Антонина не стала оспаривать наследство, хоть и ее копеечка была на них потрачена, полторы тысячи полновесных советских рублей и это при ее зарплате медсестры в семьдесят рублей. Но грех жаловаться, сейчас, помимо зарплаты, она получает и пенсию, да еще имеется небольшое приусадебное хозяйство: куры, гуси. Была коза, но не любят люди козье молоко, хотя оно и полезное. Свои приезжают нечасто, а сама Антонина его тоже не очень уважает еще с детства. Тетя Маша иногда приказывала ей его пить, она пила сквозь силу, но с тех пор в рот не брала. Врачи рекомендовали Рэму, как ветерану-подводнику, для него и козу держала. Потом пришлось с ней расстаться. Сразу после смерти Рэма Антонина продала свою Пушинку соседям и теперь она каждый раз блеет, когда видит бывшую хозяйку. Узнает поди ее…
Калитка скрипнула и дочь с внучкой идут к ней навстречу, задевая еще мокрые после недавнего дождя кусты вдоль дорожки.
– Бабушка, ты, как капитан на мостике, стоишь и смотришь, – поставив сумку около крыльца, Света бросилась обнимать бабулю.
Подошла Ирина. При первом же взгляде на дочь мать заметила ее осунувшееся лицо и обветренный темный загар чужого солнца. Она раскрыла ей на встречу свои объятия, мать и дочь обнялись.
– Ну, что стоим, заходите! – Антонина, широко распахнув дверь, пропустила в дом своих дорогих людей.
В доме все не меняется годами, даже десятилетиями. Все та же, знакомая с детства обстановка: довоенный буфет, подаренный Марии сестрой Лидией и ее мужем Григорием, когда они жили в тех малюсеньких комнатках полуподвала особняка на Новинском бульваре. Буфет был слишком громоздким и никто не позарился на него, когда особняк родителей Григория пошел под заселение жильцами в порядке уплотнения. Остальную мебель растащили по чужим углам, а может и сожгли в печках и буржуйках во время Гражданской, но к возвращению с фронта бывшего хозяина дома Григория, из мебели его семьи только этот огромный буфет и остался. Он стоял в коридоре образовавшейся коммуналки и на него вечно натыкались жильцы, особенно по ночам, когда вставали по нужде и из-за экономии не включали свет, да и электричества частенько не бывало по причине постоянных сбоев, план ГОЭЛРО еще только предстояло осуществить.
Буфет раздражал всех и Григорию, как бывшему хозяину, был предъявлен ультиматум: – или убираешь эту громадину, или мы ее распилим и сожжем в печке! – Но этот буфет был для Григория дорог как память о родителях и его счастливом детстве. О том, что он был антиквариатом и представлял собой художественную ценность тогда мало кто думал.
Делать было нечего, пришлось Григорию договориться с шофером из их штаба и отвезти неподъемную тяжесть в Холщевики, в дом Марии. Заносили этот монолит всей мужской силой деревни, состоящей в основном из подросших и не успевших побывать на Гражданке парней. Мужиков среднего возраста в деревне почти не осталось, кто погиб, а кто-то вернулся инвалидами, подобно Павлу, к тому времени уже покойному. Ну, а место, освободившееся от вечно мешавшему всем буфета, тут же занял огромный деревенский сундук, на который определили спать старую бабушку, выписанную из деревни для присмотра за детьми кого-то из жильцов. И опять возникла преграда на пути к отхожему месту в квартире, но больше никто не ворчал, своя ноша не тянет.
Ирина со Светой любят свою малую Родину – Холщевики. В родном для них доме уютно, вкусно пахнет гусем, запеченным с антоновскими яблоками из их старого сада, заложенного еще при тете Марии. Они охотно делятся с соседями саженцами и отростками, но урожай от них не тот. В их саду Антоновка крупная, ароматная, кожа негрубая, мякоть сахаристая. Антонина, разменявшая шестой десяток, еще крепка, сама управляется и на работе, и дома в своем саду-огороде. Рэм, когда был жив, помогал, но по-крупному, мужским рукам всегда есть дело в деревне. А вот полоть грядки, ухаживать за садом, это все дело женских рук Антонины. Конечно, в медпункте она физически не уставала так, как рядовые колхозницы на полях и на ферме, но в особых случаях и ей приходилось принимать участие в уборке урожая в их еще только становящемся на ноги после войны колхозе «Светлый путь». В молодости все давалось легко, а Антонина с детства отличалась крепким здоровьем и силой.
Отставнику Рэму за какие-то пять лет удалось вывести их колхоз в передовики по Подмосковью, за такой короткий срок это было очень непросто, вот и «сгорел» на работе. Сам он частенько смеялся по поводу своего революционного имени. РЭМ – революция, электрификация, механизация, именно таким именем наградили его родители, но на дворе уже был конец 70-х годов, последних лет еще здравствующего социализма с его соцлагерем и Варшавским договором. Люди страны СССР еще не знают, что Афганская война уже на пороге. Она ворвется в почти каждую семью, где есть призывники и кадровые военные, а у тех – невесты, жены, дети. Наступил конец лета 1979 года, с последующими событиями в далеком Афганистане, стране одной из первых признавшей РСФСР в 1923 году. Афганская война станет тяжелой ношей, надорвавшей нашу страну, это станет началом эпохи перемен и конца Союза, но все еще впереди.
Глава 15 Возвращение
Антонина, волею судьбы сменившая городскую жизнь на жизнь в деревне, ни разу не пожалела об этом. Наверное, сказались крестьянские корни родителей. И какое же это счастье, встав утром раскрыть окна в сад с его летними ароматами цветов и пением птиц, идти по деревенской тропинке на работу, любуясь просторами русской равнины с ее необъятной ширью. А осень, с присущей только ей яркими, пышными красками бабьего лета и криками журавлей, улетающими в дальние страны где нет зимы. Зима в деревне долгая, темная, неторопливая, но сколько тайны в декабрьских вечерах. Зима располагает к общению, работы на полях закончены и хорошо посидеть в кругу подруг своей прошедшей молодости, поговорить, вспомнить, попеть песни, а чтобы руки на коленях без дела не лежали, женщины зимой рукодельничают: вяжут, вышивают, помогая друг-другу. После Крещения, с прибавлением светового дня – подготовка к будущей посевной с каждым днем возрастает. И так год за годом все идет по кругу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



