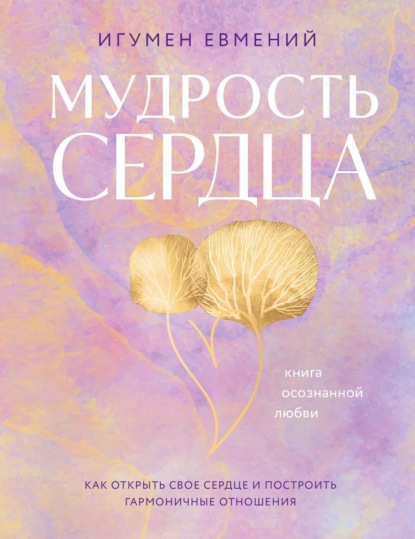
Полная версия:
Мудрость сердца. Книга осознанной любви
Любое сопереживание старшим убивает ребенка. Это старшие дают жизнь, добровольно забирая негативные эмоции с маленьких, отдавая радость и мудрость.
Иначе жизнь просто течет вспять. И нарушая природу предусмотренных взаимодействий, ты сам себя лишаешь гармонии. Логический порядок рождения и смерти также нарушать не стоит.
Страх старости одолевает людей и заставляет их хотеть казаться младше. Старшие не значит взрослые. Но только они за это в ответе. И младшие не имеют право вмешиваться в процесс взросления старших. Но обязаны быть собой – это единственный шанс для детей и их родителей. Если мама не сама являет детям добрую (мудрую, взрослую) маму, а отчаявшийся ребенок берет эту ответственность на себя, сами знаете что будет с ребенком.
Часто родители взрослеют благодаря детям. Но это взросление конструктивно только тогда, когда родители сами понимают, чту делают не так, и сами себя меняют. Все дело в способе проживания боли. Если родитель начинает делиться болью с ребенком, он убивает ребенка. Ребенок может не выдержать родительскую боль. Необходимо испытывать боль самостоятельно или разделять ее с еще более старшими, родители не могут делиться с детьми… Все начинается с того, что дети сочувствуют родителям. А родители ожидают от детей мудрости.
Когда родители ожидают от детей мудрости, «учатся у детей», советуются с ними в вопросах, в которых компетентны только взрослые, это психологически деформирует детей. Это значит, что старшие отрывают по кусочкам от младших. Парадокс в том, что чем тираничнее родители, тем больше дети к ним привязываются и любят их.
Родители предъявляют претензии к детям. Старшие разочаровываются в младших. Разочаровываются! Не ощущаете ли вы, какой это бред в мыслях? Насколько это шизофренично: разочароваться в ребенке. Как будто он должен тебе чего-то давать, чему-то соответствовать. Быть в плену твоих ожиданий! Насколько глубоко насилие засело в наших мыслях. И разумно ли сопереживать этим насильникам?
Единственное, что по праву принадлежит взрослым, – жизненная мудрость. У детей ее попросту не может быть. Детям по праву принадлежит беззаботность, шаловливость и легкомыслие. А если ты увидел ребенка взрослее тебя – это повод осознать, что тебе нечего уже дать этому ребенку. Жизнь у него уже есть, сила, красота, здоровье. И даже мудрости у него больше, чем у тебя. Не начинай его есть по кусочкам. Просто проживи свою боль в одиночестве. В отшельничестве ты станешь мудрецом. Тебе будет чем поделиться лишь после прожитой боли.
– Разве не бывает неблагодарных детей, которым все отдали, а они…?
– Детям нужно отдать главное – их самих, научив обходиться без родителей, передать им ответственность за самостоятельную жизнь, сняв чувство долга и вины перед родителями, после чего уволиться с должности мамы, отпустив их во взрослую жизнь.
А для этого честно ответить себе на вопрос: я родила и воспитывала их для них или для себя?
Друзья, в дискуссиях о «прощении родителей» столько шума! Столько эмоций! У меня аж мобильник нагрелся. Давайте суммирую еще раз то, что сказал ранее:
– Ради мира в своей душе откажись от позиции обвинителя (кого бы то ни было, тем более собственных родителей).
– Тебе были даны именно те родители, которые привели к возникновению именно тебя.
– Родители дали тебе именно то, что было у них; если бы у них было что-то еще для тебя, они непременно бы дали тебе это.
– «Я согласен с жизнью такой, какая она есть, без претензий».
Эти убеждения – база психологически здорового человека, ватерлиния психологической адекватности. Причины многих жизненных неуспехов и чувства несчастности – от недотягивания по изложенным выше позициям.
Ключ выздоровления от инфантилизма и его проявлений: честно и безжалостно дать оценку родительской работе мамы и папы в моем воспитании, без попыток их «понять», «простить», «оправдать», и записать эти выводы на бумагу.
Именно после этого мы перестаем держаться за родительские фигуры и уходим в самостоятельную жизнь.
Пока мы «торгуемся» с жизнью, пытаясь различными этическими, психологическими, эзотерическими теориями «оправдать» и «понять» родителей, мы остаемся детьми, ожидающими, что «мне додадут» (если не родители, то кто-то еще), и тогда мы получим право на то, чтобы быть счастливыми.
У Берта Хеллингера встретил очень глубокую фразу, которую здесь воспроизведу по памяти: «Избегающий необходимых (тех, которые невозможно обойти) жизненных конфликтов подсознательно пытается спасти папу и маму от развода, изображая из себя послушного ребенка».
Взросление человека начинается с разочарования в своих родителях. Пока человек видит своих родителей идеальными («перед которыми мы в неоплатном долгу»), пока видит их богами, у него нет оснований уходить от них для поиска собственного предназначения. Зачем же уходить от богов?
Любовь к родителям не заповедана человеку (с библейской точки зрения), нам заповедано почитание родителей. Это – одна из десяти заповедей. Поток любви рода проистекает по нисходящей, от старших к младшим. Следовательно, требование любви со стороны родителей несостоятельно.
Ожидание со стороны родителей ответной любви («некому в старости стакан воды…») в отношении детей является попыткой удержать их от развития по собственному пути, его женщина занимает материнскую позицию по отношению к нему.
Если ребенок физически отделился от мамы, но не отделился психологически (мама не отпустила, потому что считает, что он без нее не справится), это расстояние он будет чувствовать как вину, как будто он «бросил маму», «предал ее».
Осознанные родители в период подросткового взросления ребенка, с 7 до 16 лет, с каждым годом передают своему ребенку все больше ответственности, чтобы он жил в дальнейшем «на своих хлебах», смог уйти от них в свою собственную жизнь без долженствования что-то отдавать своим родителям. Жить с родителями в одном доме в 25–30 лет – это инфантилизм.
Подсознательно многие мамы воспринимают ребенка как часть своего тела, ведь на определенном жизненном этапе все так и было. Они заботятся и заботятся, даже когда дети уже взрослые и живут отдельно от них. Где-то к 18–20 годам своего ребенка из роли мамы нужно выйти. Но некоторые мамы не отпускают своих детей, потому что им тогда нечем будет жить.
Если мама обесценила папу и разошлась с ним, то сын – это «единственный мужчина в семье», маме психологически трудно его отпустить. Она дает сыну противоречивые послания: «Ладно, иди женись, поступай как хочешь» и вместе с этим «на кого ты оставишь маму». Сын «поступает как хочет» и, со временем понимая, что «мама была права, когда говорила, что эта девушка мне не пара», возвращается к маме.
Апогей инфантилизма – когда мама разруливает семейные и финансовые дела взрослого сына или дочери. Брать у мамы деньги (даже в долг) – это показатель невзрослости.
Если мужчина не отсепарировался от мамы, его женщина волей-неволей оказывается по отношению к нему в материнской позиции. «Смотри, передаю тебе в руки, – говорит мама своей невестке, – чтобы не хуже ему было, чем когда он жил со мной». Такие материнские послания настолько вшиты в социальную матрицу, что мужчине, чтобы повзрослеть, единственным выходом становится – категорически расстаться с мамой, разорвать с ней отношения, уйти без оставления адреса.
Знакомая ситуация: сын съехал от мамы – через неделю она звонит, чтобы «приехать занавесочки повесить»? Затем она привозит кастрюльки, сковородки, порошки, то есть она продолжает «заботиться» о нем. Но как только она привезет хоть грамм своих домашних вещей – все его «отделение от мамы» пойдет насмарку. Но мама не понимает этого и думает, что «действует из лучших побуждений». Выход в таком случае (для сына, для того чтобы повзрослеть) только один: поблагодарить ее за все и уехать, не оставив ей адреса.
Материнский транс – самый интенсивный уровень гипноза. Каковым мама видит своего не отделившегося от нее ребенка, таким он и становится. Мама, не желающая выйти из материнской роли, может быть то ранимой, то холодной, то очень любящей, то умирает без «стакана воды», лишь бы удерживать связь.
Если женщина не получает мужского внимания от своего мужа, скорее всего, его мама скачивает с него внимание и энергию. Материнский контроль – форма получения энергии.
Почему «мамины сыночки» не в состоянии построить полноценные отношения с женщиной? Потому что всю энергию на тонком плане забирает мама. Такой юноша не может самоидентифицироваться как взрослый мужчина, глава своей семьи. Чтобы мужчине войти в полноценные отношения с женщиной, нужно как минимум полгода прожить в отделенности от мамы, взять на себя ответственность за приготовление пищи, за рубашечки глаженные, актуализировать в себе те функции, которые в его детстве и подростковом возрасте выполняла мама. Если этого не произойдет, мама передаст будущей жене своего сына как ребенка и она де-факто будет главой этой новой семьи. Такому мужчине трудно будет понять, где его желания, а где желания его жены, где жена о нем заботится, а где (под видом заботы) его контролирует.
Если мама при других людях (или же при его девушке) рассказывает про то, каким он был маленьким, как до трех лет писался, говорит его девушке, чту именно он любил есть, а чего не любил, – это унижение мужчины в ее глазах, хотя внешне выглядит как забота о сыне.
Когда родители говорят своему ребенку: «Когда же ты уже уйдешь жить отдельно», – это родительское благословение. Если родители не отпускают своих детей, они (родители) не выбирают повзрослеть. Мама (как мама) рождается с первым ребенком. Сколько лет первому ребенку, столько лет и ей как маме. Но ребенок может вырасти, ему уже 18–20 лет, а мама остановится в росте (к примеру, на 14 годах его и своей материнской жизни). Взрослые дети не обязаны кормить инфантильность своих родителей, сидя с ними рядом. Если мама с папой не повзрослели, не хотят выходить из родительской роли, это не снимает ответственности с нас, с того, чтобы повзрослели мы сами.
Важен сам
процесс для растождествления – серьезный разговор с родителями.
Важно произнести примерно такие слова: «Такого-то числа я ухожу из родительского дома. Физически я ваш сын, но как родители вы завершили свою миссию. Вы молодцы, спасибо вам. Но теперь у меня будет свой дом. Возможно, я иногда буду приезжать, но сейчас у меня начинается новая жизнь. В день отъезда я попрошу вашего благословения. Мы купим торт и отпразднуем это. Я буду всегда чтить вас как родителей, но ваша родительская работа по воспитанию меня и заботе обо мне больше осуществляться не будет. Вы не сможете подсказывать, как мне лучше поступать, потому что мне нужно нащупать все это самому. Я знаю, что у вас большой жизненный опыт, но если я не буду совершать своих ошибок, я не смогу повзрослеть. Подходит ли мне моя девушка – буду решать я сам. Конечно, познакомлю с ней, на свадьбу приглашу. Но помочь мне повзрослеть вы можете, только уважая все мои жизненные выборы. Уважать – не значит быть с ними согласными, а значит быть согласными с тем, что я взрослый. Если я попытаюсь к вам вернуться, пожалуйста, не принимайте меня обратно».
Особый разговор – отношения с папой. В нашей стране гораздо больше отцов с нераскрытым чувством отцовства, чем матерей с нераскрытым чувством материнства. Физически мужчина и женщина могут быть папой и мамой, но открыться ребенку душевно – это больше соответствует женской природе, это для нее естественно. Мужчинам почувствовать себя отцом сложнее.
Единственное послание для мальчиков и девочек, которые не знали, что такое отцовская любовь, что такое забота и строгость, – найдите старшего мужчину, который мог бы относиться к вам как отец.
Психологически отцовство очень важно. Отцовство – это строгость, способность собрать себя волевым образом, сказать «нет» меньшему в себе ради чего-то большего; отцовство – это навык самодисциплины. Найти мастера, учителя, духовника – это и есть реализация потребности в отцовстве.
В современной психологической среде сегодня идет излишнее педалирование темы воссоединения с родом.
Если мать тебя отвергла, или отца не было, или отец был не таким мужчиной, которым ты хотел бы быть, или мама была не той женщиной, которой бы девочка хотела стать, то надо согласиться, что «так карта выпала», и жить, примирившись с этим, не пытаться реальных родителей идеализировать, взяв недостающее ценное у других людей.
Если родители по отношению к нам были в чем-то деструктивны, считаю, что не стоит заниматься «принятием силы рода». Лучше бы принять мудрость жизни, которая именно так распорядилась и именно этих родителей подарила тебе. Принять и согласиться, что у меня такая судьба, что мне достались именно такие родители, и именно такие отношения между ними, и у них было именно такое отношение ко мне.
«Я принимаю свою судьбу, я согласен со всем сложным, что в ней было. Я выбираю жить и быть счастливым. Спасибо папе и маме, что они сделали самое главное – я здесь».
Принять то трудное, что было в судьбе, гораздо круче, чем заниматься в своей голове магией по «восстановлению родовых связей».
Почему прежде, чем идти в партнерские отношения, необходимо разобраться в своих отношениях с родителями. Если ты не осознал, какой был сценарий в семье ваших родителей, все ли вас в отношениях ваших папы и мамы устраивало, существует риск его повторения в ваших супружеских отношениях.
Если вам хочется, чтобы в ваших отношениях что-то было по-другому, необходимо быть осознанным к тому, чтобы они развивались не по знакомому из родительской семьи сценарию, а иначе, в каждом конкретном развороте событий осознанно избегая автоматизма.
«Прощать родителей» – это неправильная постановка вопроса. Простить может только больший меньшего. Мудрость же состоит в том, чтобы согласиться с тем, что родители из того, что было у них, дали вам все необходимое, чтобы вы оказались здесь.
Принять родителей – это означает принять, что это лучшие родители для меня. Потому что, если бы это были другие мужчина и женщина, это были бы не вы. Они вложились в ваше воспитание так, как могли. То, что родители вам дали, – это их наследие, а то, чего они не дали, нужно воспринимать как их благословение: найти необходимое вам за пределами семьи.
Недополученное от родителей можно восполнить другими старшими принимающими людьми.
Через почтение родителей нам дается от мамы: разрешение быть эмоциональным, живым, чувствующим, и от папы: волевое начало, навык в постановке целей и их достижении.
У «идеальных» родителей дети часто не социализированы, они не хотят выходить в мир из уютного семейного гнездышка.
В конструктивных взаимоотношениях, где есть любовь и взаимоуважение между родителями, ребенку легко расти и развиваться. Когда родители ругаются, дерутся, пьянствуют – это деструктивные отношения, даже если не всегда это происходит на глазах у детей. В этом случае важно снять свои претензии к ним, возможно, поработать на эту тему с психологом.
Построить взрослые отношения с родителями – это значит отделиться, обозначить свою автономность, уйти от деструктивных, манипулятивных ходов с их стороны, научиться не подставляться под кнопки вины и стыда.
Отец, благословивший сына, признал в нем взрослого мужчину.
Мама, благословившая дочь, признала в ней взрослую женщину.
Библейский принцип «оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей…»
указывает на необходимость психологически отсепарироваться от родителей прежде вступления в партнерские отношения. Пока вы территориально, психологически, финансово не оставили маму и папу, вы не сможете ни к кому по настоящему прилепиться.
Уходя от родителей в самостоятельную жизнь, если что-то пойдет не так, необходимо дать себе слово не возвращаться в родительский дом.
После сепарации от родителей отец и мать становятся старшими друзьями, но они больше не имеют над вами власти.
Если муж в конфликте встает на сторону жены, а не мамы, – жена чувствует свою защищенность. Для женщины защищенность в приоритете.
Мудрость родителей состоит не в усилении межполовой конфронтации, а в помощи: показать, с одной стороны, неоднозначность этих отношений, с другой стороны, дать благословение пройти этапы построения партнерских отношений без их участия, научить опираться на собственную интуицию, на доверие и открытость, а не на родительские инструкции.
Диалогичность
Многие люди чувствуют себя непонятыми и непринятыми в жизни, такими, какие они есть. И во многом это происходит оттого, что они не уверены в том, что то, что ими переживается внутри, имеет ценность и значимость. Это происходит во многом оттого, что в детстве, в процессе, который называется социализацией, с их потребностями не считались, им говорили «как надо». Взрослым было вовсе не интересно, что же там, внутри нас, происходит.
Стоило взрослым несколько раз сказать плачущему ребенку: ≪«Закрой рот», «никого не волнует, что ты хочешь, а чего нет», и мы (будучи детьми) затыкались, понимая, что наш внутренний мир никому не интересен. Нужно быть хорошим мальчиком (или девочкой), а для этого полностью соответствовать ожиданиям взрослых. Таким образом, мы предали себя в обмен на одобрение и принятие взрослых.
Когда дети выросли, они стали вести себя подобным образом (с потенциальными или реальными партнерами): они не разговаривают, «стараются» и предполагают нечто о других, додумывают, вместо того чтобы спросить собеседника, поинтересоваться: понимает ли собеседник их, чувствует ли себя понятым и значимым в общем взаимодействии?
Нам так же, как в детстве, кажется, что и в партнерских отношениях нужно стараться соответствовать ожиданиям любимого человека, игнорируя свои чувства, вместо того чтобы честно и бережно говорить о себе, предъявляться, раскрывать свой внутренний мир перед ним.
Необходимо научиться спрашивать, уточнять: «Правильно ли я тебя понял?», интересоваться другим, научиться диалогу, для которого необходим баланс слушания и предъявления, умение вовремя заметить, когда партнер нарушает границы, воспринимая другого как собственную функцию.
Все чаще замечаю, как люди общаются не друг с другом, а со старыми образами друг друга, которые остались запечатленными в период первых встреч. Одним из маркеров этого является то, что спешим говорить сами – и не слышим, иногда даже не желаем услышать другого человека, хотя бы заметить по выражению его лица, как он реагирует на наши слова… Ведь, когда мы говорим, сами себе мы более интересны! Мы редко говорим друг с другом о нас, – мы говорим в основном о других, которых здесь нет с нами… А с теми – говорили о людях, которых не было рядом тогда.
Поэтому часто в конце общения – опустошенность, нет ощущения услышанности. Поэтому и бежим в Интернет – в различные блоги и соцсети, – ведь там собеседник молчит, а у нас есть иллюзия, что он «полностью с тобой».
Как писал в свое время Бернард Шоу,
«Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать…»
Поэтому и трудно бывает позвонить старым друзьям: а вдруг они будут разговаривать с устаревшей версией тебя, а не с тобой реальным (а достучаться не хватит сил)? Поэтому дорожу и бережно поддерживаю те контакты, в которых я нужен таким, каковым являюсь в настоящий момент, и в которых я готов увидеть их, моих друзей, таковыми, каковы они «здесь и сейчас».
– Полагаю, что прежде чем встретиться по сути, на глубине, люди обычно достаточно долго вглядываются друг в друга. Мне сложна коммуникация, где человек не видит моей сути, то есть ссорится или спорит со мной в своей голове, а после транслирует итоги этой дискуссии реальному мне… Тогда я делаю шаг назад и не ввязываюсь больше в эту историю. Зачем опровергать то, что мой образ в голове собеседника имеет очень мало отношения ко мне реальному? Он ведь будет доказывать мне, что его образ является истинным, и даже может преуспеть в этом!.. Поэтому я не даю ему такого шанса, прекращая общение и переписку.
У меня была одна знакомая, лайф-коуч. Я пригласил ее провести семинар в нашем Центре. На все неудобные вопросы, звучавшие из аудитории, она отвечала одной фразой, произносимой с многозначительной интонацией: «Подумай об этом», – и тут же возвращалась к собственной теме… Я не видел в жизни лучшего способа сделать полным дураком вопрошавшего оппонента.
(из личной переписки)
Именно эмоциональный аспект взаимодействия, а не обмен информацией между общающимся, является сутью и смыслом человеческой коммуникации.
Осознаём ли мы, что происходит между нами, когда мы общаемся? В процессе обмена суждениями мы:
– или противопоставляем свое суждение суждению собеседника, утверждаясь в чувстве собственной правоты;
– или обретаем общее поле взаимодействия друг со другом, обоюдно обогащая наши точки зрения.
Другими словами, или самоутверждаемся, отрицая другого человека с его «неправильной» точкой зрения, или же созидаем друг друга, находя ценность и красоту в наших различиях. Тон полемики, как говорит классик, важнее ее содержания. Совместный поиск истины невозможен, если «познавший истину» логическими доводами выталкивает на профанный уровень своего собеседника.
Пространство диалога раскрывается в совместности и согласии между собеседниками при их обоюдном желании восполниться видением оппонента. Для психологически зрелых людей обрести человека в процессе общения во много раз важнее, чем в чем-то своем его переубедить.
Чувство глубокой эмпатии и (здоровой) привязанности к конкретному человеку возникает в моей душе исключительно в смыслообразующем пространстве: в искреннем диалоге, в конструктивном общении. Когда человек прекращает развиваться в смысловом пространстве, раскрывать себя в творчестве и в диалоге, настолько погружен в собственные образы прошлого, что не видит собеседника, мой внутренний «магнит» перестает работать. Я пытался оставаться в контакте, – не выходит, даже с некогда близкими друзьями.
Пока человек остается искателем, разбирается с собой, с жизнью внутри и вовне, мне с ним интересно. Когда же он переходит на бытовой, биовыживательный уровень ценностей и мышления, душой я будто сворачиваюсь в себя и… ухожу. Мы больше не единомышленники и не «единочувственники». В слово «едино…» я вкладываю значение «вместе, в одном направлении», но ни в коем случае не «одинаково». О чем же тогда продолжать дружить/любить дальше?
И никакими словами о «верности», «дружбе», «любви» и о том, чтобы «принимать человека таким, каков он есть», моему уму душу не переубедить. Не хочется дальше вместе – и все. Дружба, партнерство, даже любовь (во мне) буквально «рассасывается». Оказалось, что верность (общей) глубине для меня важнее верности конкретному человеку, если с ним больше невозможно на эту самую глубину.
При этом из отношений я выхожу не сразу, какое-то время жду и надеюсь на то, что тот самый глубокий уровень раскроется вновь. Но потом, если не случается, я иду, мне дальше… И даже не извиняюсь на прощание. Созвучное моему настроению на этот счет есть у Цоя:
Они говорят: им нельзя рисковать,Потому что у них есть дом, в доме горит свет.И я не знаю точно, кто из нас прав.Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед.Закрой за мной дверь. Я ухожу…– Глубинная жизнь души – очень интимное дело, и делиться этим с другими чревато: очень легко быть непонятым. Но иногда все же так хочется говорить о себе, преодолевая этот страх…
– Если у человека был какой-то яркий опыт, некое переживание, – особенно если это произошло подобно вспышке, очень хочется этим поделиться с кем-либо. К примеру, человек только что открыл для себя Бога, получил опыт веры, – вот в этих состояниях сразу хочется всех обратить, всех втянуть. Пригласить своего друга, соседку, родителей. Каждая встреча человека с запредельным уникальна. Поэтому не факт, что если ты получил вспышку эмоций здесь, то такое же переживание сможет разделить другой человек.
Потребность поделиться своей душой с другими людьми присуща нам как человеческим существам. Поэтому, если мы пережили нечто, то при возникшем желании поделиться этим с другими людьми для начала необходимо внимательно посмотреть, на каком уровне сопричастности находится наш собеседник, насколько и в каком количестве он мог бы понять, срезонировать с нашим опытом. Насколько он готов это услышать в нас. Не сказать в ответ, что «тебя-там-куда-то-втянули», или «на тебя повоздействовали», или что «это какое-то безумие». Насколько человек готов услышать наши глубины, наши переживания, то, что находится в нашем сердце?
Вообще, в наше время люди не особо расположены делиться своим внутренним миром. Мы привыкли делиться внешними достижениями: кто что купил, кто куда поехал, у кого сколько денег.



