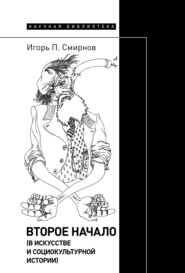
Полная версия:
Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)
Неверие Достоевского в положительную силу человеческой продуктивности нашло выражение, среди прочего, в постоянной у него теме пустой растраты отцовства. В роли малого демиурга отец бросает свое детище на произвол судьбы или привносит порчу в прокреативность. Пьянство чиновника Мармеладова подразумевает ложную спиритуализацию родительского начала. Следствие этой псевдоодухотворенности (пародирующей святоотеческую метафору «духовного вина») – сочетание в дочери Мармеладова, Соне, вынужденной пойти на панель, свойств падшей Софии (Ахамот) и Софии высшей, вырывающей Раскольникова из заблуждения. Версилов – праздный расточитель богатств, который «прожил в свою жизнь три наследства…» (13, 17). Он пренебрегает воспитанием сына: Аркадию приходится самому – без наставника – определяться среди жизненных трудностей, не будучи застрахованным от ошибок. В безудержном сладострастии Федор Павлович Карамазов зачинает от Лизаветы Смердящей монстра Смердякова. Еще один отец, производящий на свет чудовище, – Степан Трофимович Верховенский. Можно сказать, что фигуры отцов в романах Достоевского суть аллегории, сводящие авторскую мысль о неполноценности генеративной потенции человека к наглядному образу. В биографиях, которыми Достоевский снабжает представителей старшего поколения своих персонажей, затаена структура притчи – аналогичной, но не напрямую подражающей евангельским параболам. По экстраполяции: в качестве аллегорической допустимо интерпретировать и в целом конструкцию поздних романов Достоевского, зрелищных, с одной стороны, а с другой – подчиненных наставительному абстрактно-религиозному смысловому заданию.
Хотя художественное мышление Достоевского и нельзя непосредственно вывести из гностической гетеродоксии, оно, как и та, отходит в сторону от церковной ортодоксальности. Догматизм вменяется в «Братьях Карамазовых» собирающемуся предать Христа огненной смерти Великому инквизитору: «…старик замечает ему (пленнику. – И. С.), что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано ‹…› в этом и есть самая основная черта римского католичества…» (14, 228). Посылая послушника Алешу в светскую среду, Зосима солидаризуется с псковско-новгородской ересью стригольников (XIV–XV векá), возмещавших свое отпадение от церкви и богослужения аскезой в мирской жизни. Падая на землю и обнимая ее, сам Алеша также вторит стригольникам, исповедовавшимся земле, за что их порицал Стефан, епископ Пермский. В типологическом освещении любая христианская ересь берет начало в гностицизме, смыкаясь с ним в том, что подвергает реверсу официально утвердившуюся религию, направляющую веру из посюсторонней сферы в потустороннюю. В противоход к этому гетеродоксия обязывает своих адептов искать опорный пункт в инобытии, чтобы оттуда узреть дольний материальный мир[91], который казался гностикам целиком несовершенным, в котором церковь, по мнению стригольников, впала в порочную практику возведения в священнический сан за мзду. Достоевский оценивал человеческую деятельность стереоскопически – в двойной горней перспективе, отсчитываемой от времени и Творения бытия, и его рекреации, ожидаемой во Втором пришествии Христа.
В качестве лишь имитата Божественной созидательности человеческое жизнестроительство неустранимо амбивалентно. Оно сразу как истинно, так и ложно. Фальшь в нем может обернуться правдой («…вранье дело милое, потому что к правде ведет» (6, 105), – говорит Раскольникову Разумихин), а как будто несомненная истина чревата здесь заблуждением сообщающего ее персонажа (в покаянии Ставрогина в смертном грехе архиерей на спокое Тихон справедливо усматривает «горделивый вызов от виноватого к судье…» (11, 24)). Двусмысленность фактического положения дел мешает действиям человека быть целеположенными. Теряясь в равной любви к несовместимым между собой Дмитрию и Ивану, Алеша в отчаянии сетует на то, что «вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница» (14, 170). Так же, как Зло смешивается в изображаемой Достоевским реальности с Добром (пусть то будет, скажем, преступный Свидригайлов, успевающий совершить благодеяние перед самоубийством), Добро обречено в ней на кенозис, на почти нераспознаваемость, на то жалкое существование, какое влачит еще одна, наряду с Сонечкой Мармеладовой, падшая София – Марья Лебядкина. Чем униженнее и ничтожней персонаж, тем точнее он провидит абсолютный исход человеческой истории. Высказать свое заветное упование на новое явление Христа среди людей Достоевский уполномочивает в «Преступлении и наказании» дурного отца Мармеладова, разглагольствующего в пьяном угаре перед посетителями кабака: «…пожалеет нас тот, кто всех пожалел ‹…›, он единый, он и судия. Приидет в тот день ‹…› И всех рассудит и простит, и добрых и злых ‹…› И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и всё поймем! ‹…› Господи, да приидет царствие твое!» (6, 21). Слова героев у Достоевского перемежают ошибочные суждения с правотой: выступая на суде, адвокат Фетюкович обоснованно указывает на Смердякова как на возможного убийцу Федора Павловича, но тут же меняет тактику защиты и допускает, что покушение на жизнь отца совершил Митя, впрочем, виня в этом самого старшего Карамазова. Даже отдельные высказывания Фетюковича скомпонованы так, что сами себя опровергают. Для него опека со стороны Всевышнего то же самое, что и безнадзорная предоставленность человека самому себе: «Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь» (15, 168). Хотя Достоевский и расставляет ориентиры, помогающие читателям уяснить себе, где лежит истина, все же его тексты характеризует высокая степень неопределенности и недосказанности, что вызывает чрезвычайный произвол в их толковании, увенчавшийся пораженческим отказом Бахтина от попыток услышать в них голос автора[92]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt a/M., 2005. Bd. 70. Über den Anfang [1941]. S. 30. Далее в этом разделе ссылки на данный том приводятся в тексте с указанием номера страницы.
2
Heidegger M. Brief über den Humanismus [1946] // Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt a/M., 2004. Bd. 9. Wegmarken. S. 331.
3
Löwith K. Weltgeschichte und Heilsgeschehen [1949]. Dritte Auflage. Stuttgart, 1953. S. 168.
4
К влиянию Иоахима Флорского на историософию и на исторические упования Нового времени ср.: Bloch E. Das Prinzip Hoffnung [1938–1947]. Frankfurt a/M., 1959. Bd. 2. S. 590–598.
5
О том, каково это содержание на разных этапах истории, см. подробно: Смирнов И. П. Превращения смысла. М., 2015. С. 181 след.
6
Об идеях вырождения, берущих происхождение в позитивистскую эру, см. подробно, например: Dark Side of Progress / Ed. by J. E. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985. На русском – преимущественно литературном – материале эти идеи обсуждаются в: Nicolosi R. Degeneration erzählen. Literatur und Psychiatrie im Russland der 1880er und 1890er Jahre. Paderborn, 2018. К общему пониманию дегенеративных процессов в социокультуре ср. главу «Вечное вырождение» в: Смирнов И. П. Быт и инобытие. М., 2019. С. 77–108.
7
Натурализация социокультуры (поддержанная экологической практикой) может совершаться сейчас и без реанимирования дарвинистского приспособительного эволюционизма. Так, для Жан-Люка Нанси человек отприродно культурогенен – «зверь человек» для этого мыслителя наделен языковой способностью анатомически, по своей физиологии (Nancy J.-L., Benvenuto S. Liebe, Gewalt, Religion // Lettre International. 2020. № 131. S. 49). Спрашивается: разве отприродна и семантика языка, в которой откладывается символопорождающий творческий опыт, набираемый человеком?
8
Киноискусство последних лет отреагировало на эту социокультурную ситуацию в фильмах о борьбе за приоритет в сфере технических изобретений и научных открытий. Таковы, например, кинокартины Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010) о конфликте вокруг дигитального проекта, принесшего в конце концов деньги и славу Марку Цукербергу, или Саймона Стоуна «Раскопки» (The Dig, 2021) о находке на Востоке Англии древнего захоронения, совершенной археологом-любителем Брауном, которого пытаются оттеснить в тень представители официальной науки.
9
Теперешний заново возникший интерес к генезису не ограничен биодетерминизмом, но и помимо натурализации человека он освещает начало транслокализованным. В социологии науки Бруно Латура («Наука в действии», 1987) начало открытий и изобретений перемещается из лаборатории в их подачу аудитории, в риторически организованное (речевое или визуальное) сообщение, призванное добиться контроля над реципиентами, так что производство научных фактов оказывается в изображенной так действительности конструированием артефактов и манипулированием воспринимающим сознанием. Стоит, далее, сказать, что современность может в своей вариативности обращать внимание и на секундарный генезис, как, например, в работах Шмуэля Айзенштадта, рассматривающего, наряду с первым «осевым временем», когда, по Карлу Ясперсу, сложились мировые религии и философия, также «вторую осевую эру», давшую человеку возможность самодеятельно реорганизовывать устройство общества (Eisenstadt Sh. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part II. Leiden; Boston, 2003). Но это второе начало означает у Айзенштадта не вхождение человека в бесперебойно возобновляемую историю, а скорее ее терминирование, поскольку оно реализуется в парадигматическом разнообразии «новых времен» – во множестве конкурирующих друг с другом проектов по социальной инженерии, не вытягивающихся в последовательность, в синтагматический ряд выводимых одно из другого явлений. И в этом случае мы имеем дело с началом, пусть и случающимся в истории, но дающим псевдоисторические результаты, порождающим синхронию, а не продолжающимся диахронно.
10
Schelling F. W. J. Philosophie der Offenbarung: 1841–42 / Hrsg. von M. Frank. Frankfurt a/M., 1977. S. 253.
11
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 65. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Frankfurt a/M., 1989. S. 9 ff. «Historie» означает для Хайдеггера, как он изъясняет это в «Die Geschichte des Seyns» (1938–1940), в первую очередь «Новое время», порожденное «махинациями», которые следуют из «свободы субъекта» (Ibid. Bd. 69. Die Geschichte des Seyns. Frankfurt a/M., 1998. S. 15).
12
О трудностях с переводом пары «Seyn»/«Sein» на русский, требующим непременных интерпретационных пояснений, см. также: Дугин А. Философия другого начала. М., 2010. Апология хайдеггеровской философии, проводимая в этой книге, мне чужда. С другой стороны, можно все же понять зачарованность Хайдеггером, которому уникальным образом удалось в связно-последовательной форме изложить философское видение бытия с точки зрения, занятой словно бы за пределом человеческого кругозора.
13
Уместно заметить, что Хайдеггер, наученный горьким опытом сотрудничества с гитлеровским режимом в период кратковременного ректорства во Фрайбургском университете, весьма скептически оценивает нацизм в написанной после этого трилогии. В работе «О событии» он критиковал «тотальную политическую веру» (читай: нацизм), увлеченную не «творческой борьбой», а «пропагандой и апологетикой», как и церковь, которую тоталитаризм как будто отрицает (Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 65. S. 41).
14
См. также раннюю работу Джорджо Агамбена «Человек без содержания»: Agamben G. Der Mensch ohne Inhalt [1970] / Übers. von A. Schütz. Berlin, 2012.
15
См. подробно: Смирнов И. П. На пути к теории литературы. Amsterdam, 1987.
16
Ср. обсуждение распространенного в литературе XIX–XX веков сюжета, в центре которго стоит повторная встреча героя с тем, что уже отошло в прошлое: Маслов Б. Гнезда клочней и розовые рецидивы: К исторической поэтике реалистического сюжета // Русский реализм XIX века: общество, знание, повествование / Под ред. М. Вайсман и др. М., 2020. С. 522–558.
17
См. подробно: Смирнов И. П. Событие в философии и литературе // Смирнов И. П. Текстомахия: Как литература отзывается на философию. СПб., 2010. С. 19–33.
18
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 65. S. 14 ff. Принося извинения за впадение в криминологический раж, я позволю себе высказать подозрение, что хайдеггеровское бытие-к-смерти восходит к «Философии в будуаре», где маркиз де Сад истолковал природу как царство насилия и деструктивности.
19
Нынешняя дигитальная коммуникация обесправливает литературу, коль скоро служит средством персональной авто(ре)презентации для неисчислимого множества пользователей интернета вне зависимости от того, насколько они индивидуальны по существу. Литературе не остается ничего иного, кроме деградации до уровня развлекательного чтива или маргинального бытования.
20
Энгельгардт Б. Л. Идеологический роман Достоевского [1925] // Энгельгардт Б. Л. Избр. труды / Под ред. А. Б. Муратова. СПб., 1995. С. 270–308.
21
Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 5 след.
22
Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. Берлин: Скифы, 1923. С. 35 (репринт: Paris: YMCA-Press, 1980).
23
Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.
24
Lukács G. Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik [1914]. Neuwied; Berlin, 1963. S. 158. Лукач, как предстоит убедиться, был во многом прав, но он не развернул свое утверждение в сколько-нибудь систематически доказательное.
25
Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. С. 51.
26
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. / Под ред. Р. А. Гальцевой. М., 1994. Т. 2. С. 170.
27
Об аналогии как основе реализма-позитивизма см. подробно: Смирнов И. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М., 2000. С. 21–97.
28
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 1. С. 101. Далее в этом разделе ссылки на данное издание приводятся в тексте с указанием номера тома и страницы.
29
См., например: Szczepanska K. The Double and Double Consciousness in Dostoevsky. Ann Arbor; London, 1978. P. 24 ff.
30
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 330.
31
Долинин А. С. В творческой лаборатории Достоевского. [Л.], 1947. С. 77 след.; ср.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 112 след.
32
Ср.: «В отличие от Скупого рыцаря у Прохарчина нет идей относительно денег…» (Топоров В. Н. «Господин Прохарчин». Попытка истолкования [1976] // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 141.
33
Бем А. Л. Достоевский. Психоаналитические этюды. Берлин, 1938. C. 144 (репринт: Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1983).
34
Без обиняков эту установку эксплицировал Петр Бицилли, предложивший интерпретировать разные произведения Достоевского «синхронически»: Бицилли П. М. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского [1945–1946] // Бицилли П. М. Избр. труды по филологии / Под ред. В. Н. Ярцевой. М., 1996. С. 500.
35
Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт исторического комментария [1894]. 3-е изд. СПб., 1906. С. 44.
36
Об отношении юноши-Достоевского к родителям и о гибели его отца см. подробно: Нечаева В. С. Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979. С. 22 след., 85 след.
37
Зигмунд Фрейд считал и эпилепсию Достоевского психосоматическим (т. е. физиологически объективирующим душевное переживание) заболеванием. Припадки падучей, если верить Фрейду, погружали Достоевского во временную смерть, которой он наказывал себя, разделяя вину за гибель отца с его убийцами: Freud S. Dostojevski und die Vatertötung [1928] // Freud S. Studienausgabe. Frankfurt a/M., 1983. Bd. X. S. 273–276.
38
О концепции отчуждения, выработанной Достоевским в «Записках…» в полемике с Фейербахом, Максом Штирнером, Прудоном и, возможно, Марксом, я писал подробно в другом месте: Смирнов И. П. Отчуждение-в-отчуждении. «Записки из Мертвого дома» в контексте европейской философии 1840-х гг. (Фейербах & Co) // Смирнов И. П. Текстомахия. Как литература отзывается на философию. СПб., 2010. С. 73–96.
39
Общей отправной посылкой в расходившихся идейных системах де Местра и Достоевского была убежденность обоих авторов в том, что первородный грех неизгладим; о понимании первым из них греховности человека как такового см. подробно: Compagnon A. Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes. Paris, 2005. P. 90 ff.
40
Schlegel F. Philosophie der Geschichte. München e. a., 1971. S. 15.
41
Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб., 2013. С. 89 след.
42
Моисей Альтман обратил внимание на совпадение имен у героя Достоевского и Фомы Кемпийского: Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975. С. 38.
43
О приравнивании мира к театру и о следующей отсюда драматизации повествования у Достоевского см. подробно: Смирнов И. П. Theatrum mundi в творчестве Достоевского // Смирнов И. П. Последние-первые и другие работы о русской культуре. СПб., 2013. С. 140–155.
44
О русской теме в «Игроке» см. подробно: Рыклин М. Русская рулетка // Wiener Slawistischer Almanach. 1995. Bd. 35. S. 19–39.
45
Сличение гегелевской философии с творчеством Достоевского было начато Георгом Бельцером, ограничившимся в своей монографии разбором только «Преступления и наказания»: Belzer G. Hegel en Dostoievsky. Leiden, 1953. Из новых сочинений по этой проблематике см., например: Lamblé P. La métaphysique de l’ Histoire de Dostoievski (La philosophie de Dostoievski. Tome 2). Paris, 2001. P. 117–129. В работе, посвященной сравнению «Братьев Карамазовых» и пастернаковского «Доктора Живаго», я рассмотрел фигуру Смердякова как издевательское снижение гегелевского Абсолютного Духа: Смирнов И. П. От «Братьев Карамазовых» к «Доктору Живаго» // Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1996. С. 184–187.
46
Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt a/M., 1995. S. 79. В «Бесах» к «Философии права» нас адресует реплика некоего «седого бурбона», пересказанная младшим Верховенским Ставрогину: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?». Гегель писал о том, что не стоит принимать всерьез старое изречение: «Кому Бог дает (государственный) чин, тому дает он и разум» (Hegel G. W. F. Op. cit. S. 22). Вопрос капитана подтверждает от противного верность этой максимы. C точки зрения Достоевского (она передоверена в данном случае Ставрогину) капитан выражает «довольно цельную мысль…» (10, 180).
47
Об этом сверхотрицании см. подробно: Смирнов И. П. Нигилизм, антинигилизм и «Бесы» Достоевского // Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 106–130.
48
Во вступлении к «Запискам…», в котором повествователь сообщает, что составил их для самого себя, Достоевский воспроизводит – mutatis mutandis – жест Монтеня, писавшего в предисловии к первому тому «Опытов», что они не были предназначены для широкой публики.
49
Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. С. 32.
50
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 10.
51
О Достоевском и Максе Штирнере существует обширная научная литература – ср. последнюю работу на эту тему: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. С. 219 след.
52
Туниманов В. А. Достоевский и Салтыков-Щедрин (1856–1863) // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3 / Под ред. Г. М. Фридлендера. С. 101.
53
Энгельгардт Б. Л. Идеологический роман Достоевского. С. 302. Ср. также: Джоунс М. К пониманию образа князя Мышкина // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2 / Под ред. Г. М. Фридлендера. С. 106–112.
54
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского [1963]. М., 1979. С. 194 след.
55
Lachmann R. Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt a/M., 1990. S. 254–279.
56
О проблеме «скандал и генезис» см. подробнее: Смирнов И. Изнанка чуда // Семиотика скандала / Под ред. Н. Букс. Париж; М., 2008. С. 21–28.
57
Ср.: Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. С. 121.
58
Обстоятельства уголовного дела, заинтересовавшего Монтеня, детально прослежены в: Davis N. Z. Le Retour du Martin Gerre. Paris, 1982.
59
Достоевский мог почерпнуть сведения об Акундинове как из сочинения Адама Олеария, так и из посвященных этому самозванцу работ Сергея Соловьева, которые тот публиковал начиная с 1847 года.
60
Ср. замечания о Ставрогине-самозванце в: Смирнов И. П. Timoška Ankundina и галерея самозванцев в романе Набокова Отчаяние // Gedächtnis und Phantasma. Festschrift für Renate Lachmann / Hrsg. von S. K. Frank e. a. München, 2001. S. 556–562.
61
Убога плотью у Достоевского и такая носительница истины, как Марья Лебядкина. Еще одна авторитетная героиня Достоевского, Сонечка Мармеладова, если физически и не ущербна, то все же выставляет свое тело на продажу, сполна не властна над ним. Мышкин – эпилептик. Плоть старца Зосимы тленна в противоположность непреходящей значимости его воззрений.
62
Версилов – иконокласт, как и многие из протестантов. В то же самое время в один из периодов своих скитаний он задается «странною мыслью: мучить себя дисциплиной» (13, 385), т. е. становится последователем основателя Ордена иезуитов Игнатия Лойолы, изложившего соображения о необходимости постоянной работы над собой в «Духовных упражнениях» (1548). В своей противоречивости Версилов тяготеет сразу к обоим противоборствовавшим вариантам западного христианства – и к католической церкви, и к реформаторской. Но этого мало. На Западе Версилов хочет «кончить жизнь скромным сапожником» (13, 374), припоминая, таким образом, профессию внецерковного мистика Якоба Бёме. Мистическое учение Бёме, впервые сформулированное им в трактате «Аврора, или Утренняя заря» (1612), привлекает эклектичного Версилова, считающего себя человеком «другого типа» (13, 378), чем прочие, тем, что дает право на богопознание только мудрым избранникам.



