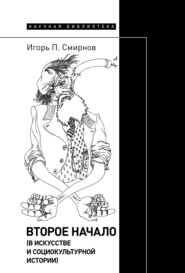
Полная версия:
Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)
Часть вторая. Романный цикл
Как спастись? Порицая в произведениях, предшествовавших работе над большими романами, человека и возводимую им «цивилизацию», Достоевский либо вовсе не предоставлял ему шанса на спасение (которое было выставлено не более чем обманным в «Записках из подполья»), либо сдвигал избавление от невзгод за рамку излагаемых в тексте событий («Записки из Мертвого дома»), либо изображал выход из плачевного состояния в виде удачного стечения обстоятельств, частного случая, не имеющего общего значения, не дающего нам повода заключить, что за счастливой, почти водевильной, как в «Селе Степанчикове и его обитателях», концовкой повествования кроется некая сотериологическая концепция. В так называемом «пятикнижье» допустимость спасения генерализуется и становится центральной проблемой текстов. В каждом из произведений романного цикла эта проблема сопрягается с каким-либо основоположным слагаемым человеческой само-бытности, каковым выступает в «Преступлении и наказании» законодательство, в «Идиоте» – отношение к ценности, в «Бесах» – доведение социального порядка до последнего совершенства, в «Подростке» – формирование индивидного. «Братья Карамазовы» подытоживают образовавшуюся таким путем парадигму, отвечая на вопрос, может ли человек спастись в своем родовом (семейном) обличье.
Быть законодателем, подобным Ликургу, Соломону, Магомету, Наполеону, студента-юриста Раскольникова побуждает самоутверждение, реализуемое в полной мере при условии, если оно будет правоорганизующим, властительным. По логике Раскольникова, все, дававшие «новый закон, тем самым нарушали древний» (6, 200), шли на преступление, на которое должен «осмелиться» и он сам. Несоблюдение Адамом заповеди Творца неустранимо присутствует, стало быть, в любом предпринимаемом в историческом времени деянии номотетического человека. Упорствуя в том, что убийство старухи-процентщицы и ее сестры было «первым шагом» (6, 117) неопытного преступника, Разумихин невзначай ставит Раскольникова в один ряд с тем, кто начал переход за черту дозволенного, с Адамом. Красильщик Николай Дементьев потому и берет на себя в самооговоре вину за убийство, что оно являет собой отражение первогреха, унаследованного любым из смертных. То, что жертвой Раскольникова оказалась беременная Лизавета, подразумевает, что он обрывает жизнь вечную, передаваемую из поколения в поколение, соответствуя per analogiam Адаму, которого Господь лишил бессмертия вместе с его потомством. Государство, гарант закона, порочно – оно ожидает выздоровления от недуга, которое может даровать ему только новозаветное чудо. Обозревая с Николаевского моста парадный Петербург с царским дворцом, Раскольников вспоминает об исцелении Христом (Мф. 9: 32–33) бесноватого немого: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…» (6, 90). Закон не в состоянии предотвратить преступление, будучи слабо отличным от него, но и спасение в публичном покаянии, принесенном Раскольниковым, не имеет для Достоевского окончательной и безоговорочной силы. На каторге воображением Раскольникова овладевает мысль об избранниках, нужных для того, чтобы «начать новый род людей и новую жизнь» (6, 420) после Гоббсовой «войны всех против всех». Признаваясь в преступлении, Раскольников еще не освобождается от мнения, что человек может из собственных сил утвердить себя в роли зиждителя иного, чем бывший, порядка. Воскрешение падшего героя все же происходит, однако оно означает, что в этом пункте роман исчерпывает себя, завершается в своей неспособности стать протоколом трансцендировавшейся действительности, в своем, если угодно, «реализме». Перерождение Раскольникова предварено его приобщением к далекому прошлому человечества, которое зримо предстает перед ним, когда он вглядывается в степь на противоположном берегу Иртыша: «…там как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его» (6, 421). Роману не дано заглянуть туда, где спасение преобразило человека, но у него есть возможность наметить путь, ведущий к этому положению дел. Предпосылка спасения состоит в том, чтобы пустить произведенное действие вспять посредством покаяния и притом отпрянуть от инициативы так решительно, чтобы погрузиться в как можно более ранние истоки истории. В сотериологии Достоевского «новой жизнью» награждается не тот, кто продвигает историю вперед, а тот, кто возвращается к началу всех начал, каковое и подлежит перемене. Если Фихте определил в «Назначении человека» (1800) поступок («die Tat») как продукт такой свободной воли, которая устремляется из посюстороннего мира в потусторонний, то в «Преступлении и наказании», контрастно соотносящемся с этим сочинением, акционизм отнюдь не перекидывает мостик к инобытию и должен быть отвергнут, с тем чтобы оно и впрямь стало горизонтом сознания. Сосредоточенность Достоевского на arché, на истоках человеческого объясняет, почему его романы подчеркнуто мифопоэтичны. Используя в них самые разные мифемы, Достоевский строит их стержневой сюжет однообразно – все они повествуют о катабасисе своих протагонистов. И в «Преступлении и наказании», и в последующих романах орфический герой Достоевского спускается в царство смерти (или, по меньшей мере, в его подобие, как в «Подростке», где Аркадий Долгорукий посещает кружок молодежи, которой предстоит быть арестованной полицией).
Роль спасителей заблудшего человека исполняют в романе Сонечка Мармеладова и судебный следователь Порфирий Петрович. В то время как Сонечка эксплицитно воплощает собой истину Священного Писания (т. е. благодать, а не закон, по апостолу Павлу), фигура следователя загадочна. Хотя Порфирий и придерживается буквы закона, он требует от Раскольникова «учинить явку с повинной» (6, 350), не только руководствуясь уголовным правом и «выгодой» для подозреваемого, которому будет – ввиду чистосердечного признания – сокращен срок наказания, но и исходя из религиозного критерия: «Вас, может, Бог на этом и ждал» (6, 351). Порфирий отчасти равнозначен Сонечке – не случайно Достоевский настойчиво отмечает в его облике «что-то бабье» (6, 192). В отличие от авторов нарождавшегося в романтизме детективного повествования («Мадемуазель де Скюдери» (1818) Гофмана, «Убийство на улице Морг» (1841) Эдгара По) Достоевский окружает тайной не совершение преступления (ибо делинквент таится в каждом человеке), а расследование уголовного происшествия. Кто такой Порфирий? Достоевский на разные лады подчеркивает его артистизм. Порфирий – «буффон» (6, 263), дурачащий окружающих притворством, а именно: делая вид, что собирается то ли уйти в монастырь, то ли жениться; у него бритое лицо, как у актера; он отождествляет себя с Шиллером (6, 352); расставляя «ловушку» Раскольникову, он берет в пример сцену «Мышеловка» из «Гамлета». Практический результат, который должен вытекать из дознания, и самоценность артистизма согласованно дополняют в поведении Порфирия друг друга, словно бы он принял к сведению статью Достоевского «Г-н – бов и вопрос об искусстве», где было нейтрализовано разграничение между l’ art pour l’ art и утилитарно нагруженными художественными произведениями: «…красота всегда полезна…» (18, 95), – провозглашается там. Раскольников интересует Порфирия, помимо всего прочего, как «литератор» (6, 264); свой труд следователь называет «свободным художеством» (6, 260); он реконструирует не просто правонарушение, а «фантастическое, мрачное дело современное, нашего времени случай, ‹…› когда помутилось сердце человеческое» (6, 348), и тем самым принимается за разгадывание смысла текущей истории, занимается предметом философствования и писательства. Имя и отчество дознавателя Достоевский, как известно, заимствовал из «Губернских очерков» (1856–1857) Салтыкова-Щедрина[52], подчеркнув таким образом сопричастность своего персонажа литературе. Пусть Порфирию и хочется добиться почти математической однозначности от улик, собираемых следствием, он углубляется, как если бы был писателем, в психологию преступления, основывает на ней вывод о виновности Раскольникова, даже и зная, что «проклятая психология палка о двух концах» (6, 346). Итак, спасение приходит в «Преступлении и наказании» как от веры в Христа, так и от олицетворенного следователем искусства при том условии, что оно не противоречит религии.
Достоевский допускает, что закон обернется благодатью, но отказывается, как свидетельствует «Идиот», признать, что человек как ценность имеет будущее. Настасья Филипповна – ценность-в-себе, вожделенная многими, не достающаяся в принадлежность никому, поруганная уже в самом начале своей истории и гибнущая в ее конце. В качестве самоценности главная героиня в «Идиоте» своенравна, не соблюдает правил социально принятого (учитывающего значимость Другого) поведения (так, в Павловске она всенародно бьет «тросточкой» незнакомого офицера по лицу). Настасья Филипповна – sacrificium в чистом виде, явление жертвенной траты, никому не предназначенной в мире, в котором нет сверхъестественного управления свыше, и никак – сообразно с этим отсутствием – не возмещаемой. У такого рода траты не может быть меновой стоимости. Поэтому Настасья Филипповна не принимает от соблазнившего ее Тоцкого платы за позор в семьдесят пять тысяч рублей и бросает в огонь пачку денег, которые вручает ей Рогожин. Достоевский протестует против рынка, отнимающего у объектов купли-продажи себестоимость, подобно тому, как с ним боролись его современники, Прудон и Маркс. Как и они, Достоевский считает неубедительным изложенное в «Новом христианстве» (1825) учение Сен-Симона о «братской» – возрождающей ранние христианские коммуны – социальности, в которой филантропическая деятельность богатых примирит с ними бедняков. Братание обменивающихся крестами Рогожина и Мышкина, которых единит их отношение к ценности-в-себе, оказывается по последнему счету поступком, выбрасывающим обоих из общества. Благотворительность не дала положительных результатов уже в «Бедных людях» – в «Идиоте» она коррумпирована: подоплекой того обеспечения жизни Настасьи Филипповны, которое предоставляет ей Тоцкий, является его желание отделаться от ставшей обузой «содержанки». При всем сходстве с анархо-коммунистической направленностью мысли касательно неприятия рынка Достоевский, однако, противоречит не только доктрине каритативного превозмогания социальной несправедливости, но и упованию на то, что общество когда-либо будет в силах изъять ценности из искажающего их аутентичность товарного оборота. Ценностью-в-себе в «Идиоте» не могут завладеть ни представитель купеческого сословия, швыряющийся деньгами, ни князь-бессребренник, транссоциальное существо, как будто бы хозяин времени и, значит, провозвестник будущего (Мышкин говорит: «…у меня время терпит, у меня время совершенно мое…» (8, 23)). Ценность человека, ставшую товарной, нельзя избавить от ее гибельного регресса. Если в «Преступлении и наказании» покаяние служит сотериологическим инструментом (пусть и недостаточно эффективным), то в «Идиоте» оно окарикатуривается в сцене, в которой гости Настасьи Филипповны поочередно рассказывают по предложению Фердыщенки в узком кругу неблаговидные случаи из своих биографий, нимало не заботясь о духовном обновлении жизней. (Позднее «самую бесстыдную правду» (21, 52) о себе захотят поведать друг другу обитатели могил в «Бобке» – злейшей насмешке над таким загробным воздаянием, которого добиваются без соизволения на то Высшего судьи люди, сами взвешивающие свои грехи.)
Второй, наряду с ценностью-в-себе, аксиологический полюс романа составляет ценность-для-Других, Мышкин. Его предназначение – партиципировать чужое «я», раскрывать окружающим его лицам их сокровенную сущность, от них самих спрятанную. Вершина такой сопричастности Другому – сопереживание князем состояния того, кто приговорен к смертной казни, кто инаков абсолютно, будучи осужденным на исключение из рода людского. Пытаясь проникнуться сознанием обреченного на гибель человека, князь отождествляет себя с Христом в евангельском эпизоде моления о чаше: «…об этом ужасе и Христос говорил» (8, 21). Но Мышкин далек от обóжения. На то, что его идеальность дефектна, обратил внимание уже Энгельгардт: «…горе полюбившим его и возложившим на него надежду. Он бессилен и беспомощен»[53]. Его запредельность человеческой истории, позволяющая ему попадать туда, где «времени больше не будет» (8, 180), лишь следствие эпилептических припадков, в чем Мышкин вполне отдает себе отчет: «…все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и „высшего бытия“, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния…» (8, 188). Несмотря на герменевтический дар и способность к эмпатии, Мышкин расписывается на излете повествования в неисполнимости той миссии сострадательного толкователя людей, которая ему поручена от рождения: «Почему мы никогда не можем всего узнать про другого…» (8, 434; курсив – в оригинале). «Идиот» объясняет причину, по которой Достоевский не был удовлетворен каноническим церковным положением о том, что человеку отпущен его первородный грех, искупленный жертвенным подвигом Спасителя. Даже и самый что ни на есть положительный человек не достигает равенства Христу, коль скоро ему не удается быть одинаково значимым для любого Другого: соблазнившийся Настасьей Филипповной князь обманывает ожидания Аглаи. Не делаясь ценностью для всех, хотя и предопределенный стать ею, соревнующийся с Христом Мышкин, человек высшего качества, все же не может не быть виновным перед теми, чьи чаяния он не оправдал. Обе главные ценности романа – и та, что в-себе, и та, что для-Других, – приговариваются Достоевским на гибель в качестве только человеческого достояния. Вместо спасения аксиологический роман предлагает своим протагонистам погрузиться в поток бытия, сместить валоризацию с человека на витальность в широком смысле, что декларирует в своей исповеди Ипполит: «Дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!» (8, 327).
В «Бесах», романе о вероятности смены власти, утешительное перспективирование жизненной длительности отменяется – социально-политический эксперимент, планируемый здесь заговорщиками, будучи противоположностью к сохранению предзаданного людям существования, влечет за собой вырождение всякого порядка в обществе («…человек должен перестать родить» (10, 450), – так видит будущее Кириллов). Традиционная власть, изображенная в «Бесах» и как неофициальная (в лице генеральши Варвары Петровны, «деспотически» распоряжающейся частными людскими судьбами), и как официальная (представленная губернатором Лембке), теряет в обеих своих версиях авторитетность, необходимую для того, чтобы она могла бесперебойно функционировать. И Варвара Петровна, и Лембке лишаются адекватности в восприятии ими событий: первая впадает в абсурд, намереваясь «усыновить» (10, 153) жену своего сына и принимая Хромоножку за всего лишь «несчастный организм» (10, 152); второй сходит с ума, подавляя «бунт» рабочих со шпигулинской фабрики. Новая власть, рвущаяся заместить старую, ставит своей задачей в системе Шигалева, восхищающей Петра Верховенского, добиться более неколебимого социостаза за счет изъятия свободы у массового человека. Трактат Шигалева, изложение которого требует «десяти вечеров, по числу глав ‹…› книги» (10, 311), отсылает нас сразу к скомпонованному из десяти книг «Государству» Платона (откуда перенимается идея отборной элиты, правящей в обществе будущего) и к «Санкт-Петербургским вечерам» де Местра (из них в проект «земного рая» (10, 312) перекочевывает предвидение всеединства при истечении исторического времени: «Каждый принадлежит всем, а все каждому» (10, 322), – поясняет шигалевщину Петр Верховенский). Этими – более или менее очевидными – источниками соображения Шигалева не исчерпываются. Его фамилия контаминирует в своем звуковом составе имена мыслителей, философствовавших об истории, – Гегеля и Шеллинга. Шигалев поверяет диалектику «Феноменологии Духа» логикой здравого смысла («Он, может быть, менее всех удалился от реализма» (10, 313)): если кнехту надлежит побороть господина, то рабство – исправляется гегелевское заблуждение насчет грядущего владычества самосознания – будет всеобщим. Что до Шеллинга, то Шигалев предпринимает в своих предречениях противоход к его позднему труду «Философия Откровения» (1841/1842). Подчинявшийся «слепой» силе Творца человек у Шеллинга эмансипируется от этой зависимости в истории, каковая есть Откровение Бога, явленное в Сыне, который посредничает между высшим созидательным началом и людьми благодаря своей двойной – богочеловеческой – природе. Шигалев, напротив того, объявляет своим слушателям: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (10, 311), – подвергая тем самым мысль Шеллинга реверсированию.
К своей конечной цели, к возведению нерушимого порядка, революция движется через хаос пожаров, убийств, дерзкой ломки поведенческих конвенций. То, что пишущие о Достоевском обычно называют «вихревым строением» его романов, отражает в себе производимое человеком регрессивное превращение космоса в неодухотворенную первоматерию, в hyle, предпринимаемое тварными существами взятие назад Божьего творения. История берется в «Бесах» в эпохальном масштабе – как развитие умонастроений от либерализма 1840-х годов к принявшемуся утверждать себя в пору Великих реформ и сразу вслед за ними агрессивному нигилизму. Увиденная в стадиальном измерении история обнаруживает, что наступающая в ней эпоха уничтожает ту, что подготовила новую фазу (средоточие либерального благодушия, старший Верховенский, умирает, бежав из города, охваченного смутой). Смена власти неизбежно предполагает промежуточный момент безвластия – упадка в организации общества. Переступание порога вовсе не имеет в виду у Достоевского «развенчания» старого, закосневшего мира, как думал Бахтин, добавляя при переиздании в раннюю монографию о писателе («Проблемы творчества Достоевского») главу о том, как тот «карнавализовал» в своих произведениях историческую реальность[54]. Развенчивается в «Бесах» и в прочих романах Достоевского как раз герой, отваживающийся стать на порог, покидающий свое пространство-время. Пересекая границу, лиминальный человек обычно спотыкается, как, скажем, капитан Лебядкин («Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер» (10, 137)) или губернатор («Лембке круто повернулся и быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер…» (10, 351)). Переход из одного состояния в другое чреват ошибками, его сопровождает faux pas. Карнавал у Достоевского не регенеративен, а дегенеративен, возмущает рутину, расстраиваясь сам, подымает на смех и дискредитирует смеющегося, опустошается, превращаясь в «противопраздник», как это разительно продемонстрировала, среди прочего на примере «Бесов», Ренате Лахманн[55]. Торжество, устраиваемое в «Бесах», должно было бы заманить горожан в земной рай, где им обещан «вальтасаровский пир» (10, 356). Читающий со сцены в «большом Белом зале» (10, 359) свое прощальное сочинение Кармазинов знакомит слушателей с почти божественной тайной (которую познали Адам и Ева): «Есть ‹…› такие строки, которые до того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику ‹…›, но так как его упросили, то он и понес…» (10, 365). Повествователю становится «мучительно стыдно» (10, 390) за выходки исполнителей «кадрили литературы» – им завладевает то же чувство, что было испытано в Эдеме нарушителями Господней заповеди. Именно во время праздника Ставрогин и Лизавета Николаевна уединяются в Скворешниках для соития, причем Николай Всеволодович, как бы усваивая себе расплату, которую заслужил за свой грех Адам, отрекомендовывается «погубленной» им женщине «мертвецом» (10, 398). «Бесы» антитетичны «Преступлению и наказанию» в оценке темпорального реверса. Здесь попытка двинуть время вспять, дабы водворить человека снова в Эдеме, не целительна, а напрасна и опасна – она деградирует в скандал, в пьяный дебош в «зале предводителя» (10, 358), и в катастрофу, в пожар, объявший город (в других случаях, наоборот, скандал у Достоевского перерастает в лжекарнавал, как в «Преступлении и наказании», где сорванные поминки по Мармеладову заканчиваются смертоносным спектаклем, который разыгрывает на улице ряженное в театральные костюмы семейство Катерины Ивановны). У социально-политической истории, по Достоевскому, нет нового начала, потому что невозможен иной, чем прежде, генезис. Историческая инициатива есть еще один генезис, который с необходимостью повторяет отчасти начало всего, что ни есть, пангенезис. Возвращаясь к нему, она обязана быть скандалом, подобным тому, что разразился в Эдеме, – ведь пангенезис разомкнул абсолютную границу между тем, чего не было, и тем, что возникло как бытие (для-человека), т. е. явил собой вопиющую аномалию[56]. Скандалы в произведениях Достоевского – отголоски отступления от нормы в земном раю.
В романе, в котором история обрекается на спад, спасение не просто отсутствует, а замещается пагубой. Ее заключает в себе Ставрогин, антимессия. Смысл противоспасения – индифферентность. Ставрогину безразлично, внушает ли он Кириллову тягу к самоубийству или побуждает Шатова искать божественное бессмертие в народном теле. Обе посылки отождествляют человека с Сыном Божьим: одна – с Христом, принимающим крестную муку (Его, по Кириллову, «законы природы не пожалели…» (10, 471)), другая – с Ним же, воскресающим. Ставрогинское мышление, в основе которого лежит argumentum in utramque partem, разрывает слитные в прообразе смерть и второе рождение. Николаю Всеволодовичу (который «ни холоден, ни горяч») довлеет liberum arbitrium indifferentiae – полнейшая свобода воли, состоящая в выборе не между Добром и Злом, а сразу обоих этих полюсов[57]. Как ни от кого и ни от чего не зависящее существо он наделен в высокой степени свойством самообладания (стоической автаркией). Ставрогин – индивидуализованное воплощение шигалевско-деместровского (в дальнем отсчете ведущего нас к Плотину) всеединства. С точки зрения Достоевского оно постольку ложно в виде всеединства ad hominem, a не в-Боге, поскольку гасит противоположности и вместе с тем вовсе не устраняет их, погрязая во внутреннем противоречии. Пагуба взамен спасения – таково умозаключение Достоевского – следует из того, что свободе воли не удается стереть границы между несовместимыми величинами: разное, принужденное к всеединству, аннулирует его, взаимоуничтожаясь. Все, к чему притрагивается Николай Всеволодович, прекращает существование, как и он сам. У Ставрогина нет возможности преодолеть себя, так как он достиг в роли учителя непревосходимой полноты во лжи (более неотделимой от правды, инспирировавшей Шатова). Мнимое в «Идиоте» покаяние превращается в «Исповеди» Ставрогина, усугубляя свою порочность, в такое, которое бросает вызов обществу, оскорбляет его.
Захват человеком в собственность прерогативы Творца, воистину свободного в волеизъявлении, трактуется в «Бесах» как самозванство. «Обезьяна» (10, 405) Ставрогина, Петр Верховенский, призывает своего идола объявиться народу в образе «скрывавшегося» до поры правителя. В этом предложении Deus absconditus очеловечивается, на его место ставится homo absconditus. Верховенский-младший верно угадывает в Ставрогине претендента на неположенную тому власть. Продолжая начатую в «Селе Степанчикове и его обитателях» тему узурпации чужого господства, Достоевский исподволь вставляет Ставрогина в контекст первой философской попытки осмыслить феномен самозванства, каковой было эссе Монтеня «О хромых», вошедшее в третий том (1588) его «Опытов». В этом очерке Монтень обсуждал решение тулузского судьи Кораса отправить на виселицу человека, выдавшего себя за другое лицо (речь шла о непоименованном философом Арно дю Тиле, который присвоил себе идентичность пиренейского крестьянина Мартина Герра[58]). Попутно в эссе Монтеня приводятся разные мнения о том, почему хромые женщины особенно хороши в постели (то ли по той причине, что они сберегают для любовных утех силы, которые не тратят на ходьбу, то ли по той, что совершают во время полового акта неправильные телодвижения, которые возбуждают партнера до чрезвычайности). При учете этого (надо полагать, интертекстуального) фона женитьба Николая Всеволодовича на Хромоножке выглядит не просто чудачеством наперекор обществу, но погоней за сладострастием. Еще один исходный пункт для обрисовки Ставрогина – биография последнего самозванца из эпохи Смуты Тимофея Акундинова, о котором подробно сообщают записки (1656) Адама Олеария о его путешествиях в Московию и Персию[59]. Проворовавшийся на службе Акундинов симулировал собственную смерть от пожара, в котором, по Олеарию, погибла его жена. Преступление Акундинова воспроизводит при попущении Николая Всеволодовича Федька Каторжный, зарезавший Хромоножку и поджегший дом, в котором она жила. Бежавший за границу самозванец был выдан из Голштинии в Москву, где под пытками продолжал настаивать на том, что он и впрямь сын Василия Шуйского, надеясь, как полагал Олеарий, что будет сочтен сумасшедшим. Расчет не оправдался – Тимошка был четвертован в 1653 году. Внезапно вернувшийся из Швейцарии в Россию Ставрогин вешается в Скворешниках. «Бесы» завершаются врачебным свидетельством, напоминающим нам о перипетиях в судьбе авантюриста XVII столетия: «Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство» (10, 516)[60].



