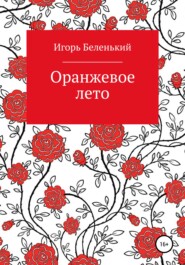 Полная версия
Полная версияОранжевое лето

Игорь Беленький
Оранжевое лето
Я люблю тишину, темноту, одиночество
Я боюсь тишины, темноты, одиночества
Я еще не выпростался из последних сновидений, когда понял, что один.
Из окна, приглушенные старинными рамами, доносятся привычные звуки: заполошный птичий гомон, гул трактора на свекольном поле, ленивая перебранка на соседнем дворе.
И ясное соло моего дыхания, неразбавленное контрапунктом её уютного посапывания. Она всегда тихонько сопит утром. Но сегодня мое соло было чистым и беспримесным.
Она ушла.
Я не открываю глаза. На всякий случай, если она в доме и всего-навсего вышла на кухню или решила сегодня первой залезть под душ.
– Ты всегда напускаешь столько пара, что после тебя проветривать надо, иначе можно удар получить.
Я её понимаю, обожаю горячий душ даже летом.
Я еще немного подожду, прежде чем увидеть пустой шкаф с сиротливо болтающимися вешалками, небрежно скомканное полотенце (я аккуратист, не люблю скомканные полотенца), чашку недопитого кофе на столе. И почему я вдруг решил, что обязательно недопитого? Возможно, я льщу себе, думая, что она собиралась второпях, не хотела объяснений, боялась, что я захочу её остановить.
Она всё сделала правильно. Зачем разыгрывать спектакль, в правдивость которого не верят ни актёры, ни невидимый им режиссёр, реализующий свои замыслы под разными псевдонимами. Кажется, некоторые из них звучат как Судьба, Неизбежность или Так Получилось. Поучилось, как получилось, и я этому рад.
С табурета в ванной мне подмигивает ярко-оранжевый апельсин, а, проще говоря, её полотенце. Терпеть не могу оранжевый – один из её любимых цветов. «Если тебе не нравится оранжевый, это признак начинающейся депрессии и неудовлетворенности жизнью. Советую обратиться к психотерапевту. Он поможет тебе на всё взглянуть иначе. Добавить тебе оптимизма, а то ты какой-то, какой-то …», – она не договаривает и просто машет на меня рукой. Её обычный жест, когда она не считает нужным затруднять себя поиском нужного слова в своем не очень богатом французском лексиконе. Я не хочу ни психоаналитика, ни оптимизма. Машинально беру еще мокрый оранжевый комок и бросаю его в корзину для белья. Пока это единственное, что меня не устраивает в жизни.
Оранжевый абажур на настольной лампе, на которую она заменила старый добрый торшер, я залил чаем. Ура. Долой оранжевые абажуры и полотенца и да здравствует… Не знаю точно что, но только не это. Согласен только на песенку, которую она напевает, когда в хорошем настроении, при этом фальшивя так, что я до сих пор не знаю, есть ли там вообще мотив.
Оранжевое солнце в облаках
Оранжевое небо на руках
Оранжевые песни над землёй
Оранжевое счастье нам с тобой
При мысли об оранжевом небе я каждый раз вздрагиваю, почему-то оно ассоциируется у меня с инопланетным нашествием, про которое случилось читать, когда еще маленьким был. А иногда я выступаю под именем «Король Оранжевое лето, голубоглазый мальчуган». Вообще-то я черноволос, чернобров и темноглаз, так что если на кого и похож, то, скорее, на плохо кормленного галчонка. Но если это ей нравится, могу некоторое время побыть голубоглазым. Экипировка в виде «зелёного сюртука и парусиновых ботинок» несколько смущает, но я привык к экстравагантности русского представления о красоте.
На кухне недопитый кофе. Полупустая чашка на столе в компании с надкушенным вчерашним круассаном. Значит, всё-таки торопилась. У неё сложные отношения с едой – она ест всё, что так или иначе оказывается в пределах досягаемости, чтобы потом, посокрушавшись около весов, сесть на жесточайшую диету, заодно посадив на неё всех, кто рядом. Я научился выходить из положения, придумывая себе дела «в городе». Диета – это не для меня.
С каминной полки в гостиной на меня смотрит наше фото, которое мы сделали в одну из наших поездок в Ниццу. Она долго и придирчиво рассматривала кадры – всегда очень трепетно относилась к тому, как выглядит. – Это не пойдёт, какая-то я тут толстая и ноги короткие. Может быть, вот эта? – Ей достаточно говорить самой с собой, моё мнение во внимание не принимается. – Да, пожалуй, вот эта. Тебе нравится?
Мне не нравится, вид у меня, откровенно говоря, идиотский. Да еще на мне дурацкая полосатая футболка. Спасибо, что не дополненная матросской шапочкой, ведь «мы же на море». Спорить не хотелось, может быть, я действительно похож на идиота. Да будет так, аминь. Фотография в бронзовой рамке, купленной по случаю на нашей деревенской ярмарке, гордо именуемой аукционом, занимает место на каминной полке. Фотографии моей родни, не удостоившиеся такого вычурного обрамления, поджимают губы.
– Если не ошибаюсь, такую рамку я видела у нашей булочницы, когда довелось к ней единожды зайти. Ну чего хотеть от булочницы…
– Ах, гран-маман, не придирайтесь. Старой Франции, Франции идеального вкуса и бонтона, которую вы так любите, уже давно нет. Да и была ли…
Я переворачиваю фотографию. Потом возвращаю её в прежнее положение. Сегодня вторник, Мартина придет убираться, опять будет ворчать: «Такого беспорядка ни в одном приличном доме не видала, а в хороших домах без малого уже лет сорок порядок навожу. А такой свинарник убирать – так можно и денег-то прибавить». Сейчас еще утро, но надо бы пройтись по дому до её прихода. Мне почему-то неудобно перед Мартиной, и каждый вторник я стараюсь навести хоть какой-то порядок до её появления, как минимум поставить всю грязную посуду в машину и развесить одежду, нашедшую временное пристанище в самых неожиданных местах.
***
Она смотрит на меня с фото. Она… Ксани. Вообще-то её зовут русским именем Ксения. Но для меня оно так и осталось непроизносимым, так что мы сошлись на Ксани. Именно на Ксани, с ударением на последнем слоге.
– Как у настоящей француженки, правда?
Нет, неправда. Она так и осталась той, кем была. И не надо о загадочной русской душе. Никаких загадок.
Её русскость была неистребима на уровне туфель, сбрасываемых у входа, чтобы потом ходить по дому босиком («Не понимаю я вас, французов, ходите по улице и по дому в одной и той же обуви, грязно же, а еще Европа…» Похоже, мифическая Европа, которую она создала в собственном воображении, живя своем захолустном русском городишке, разочаровывает).
В привычке делать себе завтрак, больше тянущий на обед, и откладывать в сторону нож («Ну все же свои, чего мучиться с ножом, я и вилкой справлюсь»).
В беспардонных вопросах о зарплате, из-за которых мне приходилось смущенно откашливаться и срочно переводить разговор на политику, погоду или футбол.
Если не смотреть на фото, я не могу вспомнить её лицо. Я не могу вспомнить, какая она – женщина, с которой я прожил почти год и с которой накануне лёг в одну постель.
Образ Ксани распадается, словно я держу перед глазами детскую игрушку, которую надо было вращать, чтобы получить яркую картинку из кусочков цветного стекала. Сейчас я вращаю волшебную трубочку своей памяти, но картинки складываться не желают.
Её глаза, то по-детски круглые, светло-карие, такие наивные, когда она играет со мной в малышку, выпрашивающую у «доброго папочки» очередную игрушку. То вдруг раскосые, злые, почти чёрные. Я не спрашиваю о причинах. Настроение у неё меняется часто, я привык.
– Ты скучаешь по родине?
– Издеваешься? Дебильный вопрос. Мне не о чем скучать. Когда уезжала, сразу для себя решила, не вернусь. Никогда и ни за что. Как бы тут с ним ни сложилось, – сам понимаешь, рисковала, – не вернусь.
С ним…
Давайте сразу расставим точки над i.
С ним -это с мужем, по совместительству моим бывшим другом, Жилем. Жиль положителен во всех отношениях, мне до него как до Луны. Он выпускник престижного частного лицея. Он обладатель диплома чего-то там по математике, статистике и финансам. Он, уже сделавший себе неплохую карьеру и шагающий уверенным шагом к вершине успеха. Он, даже на фоно играющий почти профессионально, потому как закончил школу при консерватории. Жиль, страстный охотник и спортсмен. Жиль, обожающий изысканную еду, любящий всё «классическое, изящное, дышащее красотой прошедших времён».
Собственно, на этом они и сошлись. Ксани умеет, когда нужно, произвести впечатление, оставляя за скобками нелюбовь к ножам и пристрастие к оранжевому. Она знает ровно столько, сколько нужно, чтобы хватило на поддержание первых пяти разговоров «о прекрасном», тем более, эти разговоры вполне можно свети к чему-то русскому, в котором мало кто из моих соотечественников большой знаток.
– Главное, привлечь внимание, заинтересовать. Это самое трудное, ты мне поверь.
Я верю, когда Ксани учит меня жизни. Я ей верю всегда. Верю, даже когда знаю точно, что верить нельзя.
Ксани, ставшая тем камнем, на который со всего маху навернулся мой такой правильный, целеустремлённый и рассудительный друг Жиль.
***
– Привет, Рене. Как ты, старик?
Я бурчу что-то невнятное. Звонок от Жиля, раздавшийся в моем мобильном несколько лет тому назад, вывел меня из приятного состояния полусна позднего воскресного утра. Что за привычка звонить в выходной раньше полудня. От его обращения «старик» раздражаюсь еще сильнее и хочу ответить что-то резкое. Ответить я не успел. Жиль со всеми говорит как с потенциальными клиентами финансовой компании, в которой трудится, то есть сразу берет быка за рога и переходит к делу. Мой ответ, каким бы он ни был, интересовал его меньше всего.
– Ты говорил, что в Россию собираешься. У меня к тебе просьба, надеюсь, не очень сложно исполнимая.
Замираю, предвидя худшее.
– У меня знакомая в Москве, хочу передать ей кое-что в подарок.
– А, может, курьерской почтой, – я как утопающий, хватаюсь за соломинку, хотя и понимаю, что насчет почты он и без меня бы догадался.
Жилю надо несколько секунд, чтобы решиться.
– Понимаешь, я хочу, чтобы ты посмотрел, как она там…
– Не ревнуешь? Вдруг я ей понравлюсь? – понимаю, что согласиться мне все-таки придется, но не могу отказать себе в удовольствии хоть немного поколебать его самоуверенность. Получается не очень.
– Да брось ты, – Жиль смеется вполне искренне. Слава богу, не говорит вслух то, о чем, вероятно, думает: кто я и кто ты, тоже мне, покоритель сердец…
К сожалению, он прав. Ни тогда, ни, собственно, сейчас не могу похвастаться ни внешностью звезды телесериалов, ни особыми жизненными достижениями.
– Хорошо, сделаю. Привози свои подарки и говори, как связаться с твоей знакомой.
Итак, несколько лет назад я прибыл в Москву, имея в багаже аккуратно завернутый сыр и бутылку красного. Странно, всегда думал, что ценители прекрасного достойны чего-то более изысканного, но да ладно, им, ценителям, виднее. Моё дело курьерское.
***
В первый раз мы встретились в каком-то маленьком кафе в центре. На Ксани плащ в стиле ретро и кокетливый шёлковый шарфик на шее. Ксани обожает шелковые шарфики и блузки. О, бедный мой кошелёк, и без того временами такой тощий, что кажется, что он сидит на диете вместе со мной и Ксани. Но это будет потом.
В тот осенний день до этого было еще далеко. Тогда я просто получал удовольствие, глядя на неё. Так непохожую на всех моих тогдашних русских знакомых. Без стеснения разглядывающую меня своими светло-карими круглыми глазами, временами заправляющую за уши каштановые волосы, никак не желающие укладываться в строгое каре. Прикусывающую пухлую нижнюю губу, когда она не понимает, что я ей говорю. Мы говорим на странной смеси английского, французского и русского, которая потом станет нашим «семейным» языком. Но это будет потом.
В тот осенний день до этого было еще далеко. Кажется, мы просидели в кафе часа два. И все это время больше всего на свете мне хотелось запустить руку в непослушные каштановые волосы и поцеловать нежно-нежно пухлую нижнюю губу. Да здравствуют лингвистические барьеры, да уйдут в тень до времени все преподаватели и учебники иностранных языков. Я специально говорю сложными конструкциями и не брезгую сленгом, в конце концов, я не просто француз, а молодой француз. Мне простительно. Тешу себя мыслью, что это делает еще более впечатляющим мой «французский шарм», дополняя единственный приличный костюм и шелковый шейный платок, что получил от бабки в подарок на совершеннолетие.
– Кажется, мы забыли в кафе твой подарок, – я останавливаюсь как вкопанный посреди узкого тротуара. – Ты знаешь, что там было?
– Знаю, конечно. Жиль сто раз меня спросил, какой сыр и какое вино я люблю. Так что никакого сюрприза. Давай не будем возвращаться, к тому же его уже кто-нибудь с собой прихватил. Ну и чёрт с ним. – Она небрежно машет рукой куда-то в сторону, где, наверное, должен сидеть в засаде тот самый черт. – Ты же не расскажешь Жилю?
– Ни за что, даже если он будет пытать меня рассказами о преимуществах разных форм инвестиций.
Мы заговорщицки хихикаем. Бедный мой друг. Правильный, рациональный, такой прямой и честный Жиль. Тогда мы предали тебя в первый раз.
***
Я даю Жилю полный отчет о встрече. Отчет почти правдивый, если опустить детали с забытым в кафе пакетом и то, что встречались мы не раз и даже не два.
Все мое тогдашнее пребывание в России свелось к Ксани. Мне наплевать на Кремль, на легендарный Арбат и прочие «места, которые вам надо обязательно увидеть в Москве». В Москве я хотел видеть только её. Ускорять шаг, едва завидев у выхода из метро или на углу улицы знакомый бежевый плащ. Шарфики были каждый раз новыми, тогда я еще не выучил наизусть их цвета и узоры. Впрочем, я их так и не запомнил…
– Рене, опять ты всё перепутал, я же просила принести мне с турецким огурцами, а не этот с геометрией. Ты удивительно невнимательный. – Она смотрит на меня со смесью жалости и раздражения во взгляде. Я не спорю, потому что не хочу, чтобы её глаза из светло-карих превратились в почти черные. Я не люблю чужие черные глаза. Возможно, излишне суеверен.
Мы гуляем по огромному городу или просиживаем часами в каком-нибудь недорогом кафе. На дорогие рестораны у меня почти никогда нет денег, но в ту осень для нас это было неважно. Или тогда она еще просто не решалась сказать мне об этом.
До этого еще несколько лет:
– Опять в нашу забегаловку пойдем. Только не повторяй мне в сотый раз, что там самый вкусный кофе и самые лучшие круассаны во всей Франции. Лучше остаться дома, чем опять видеть одни и те же лица, от которых меня уже скоро тошнить начнет, как и от тех круассанов. Когда же, наконец, съездим куда-нибудь. Господи, ты как Жиль – до Парижа всего ничего, а для нас туда поехать, что в экспедицию на край земли.
Она надувается, с размаху плюхается в кресло перед камином, демонстративно отворачивается и делает вид, что смотрит в окно. Мне очень хочется сделать замечание и попросить не портить кресло, которое привыкло к более деликатному обращению. Сказать, что ценительница всего старого и изящного могла бы бережнее относиться к мебели, помнящей ещё эпоху Людовика XIV… Но я просто пожимаю плечами и не очень убедительно обещаю:
– Хорошо-хорошо. Поедем на следующей неделе.
В тот свой приезд я почти растерял своих прежних русских знакомых, напрасно искавших со мной встречи и уставших от моих не очень убедительных отговорок. Если я с кем-то и виделся, то был невнимателен и неинтересен. Наконец, я забыл их всех.
Она провожала меня в аэропорту.
– Я рада, Рене, что случай нас свёл. Нам ведь было хорошо вместе, правда? Ты классный, с тобой… легко и, не знаю, как это лучше сказать, но, надеюсь, ты понимаешь. Теперь могу сказать, что у меня во Франции два хороших друга. Ты ведь будешь мне писать и звонить. Или я тебе. Ты же не против?
Я не против. Больше всего я хочу прижать её к себе и зарыться в непослушную каштановую гриву. Вместо этого я произношу что-то дежурно-нейтральное и пожимаю её протянутую руку.
В последний момент опомнились, что оставили на стойке подарки для Жиля, которые едва не постигла участь пакета, забытого нами в маленьком московском кафе. Им повезло больше. Жиль получил своё.
***
Об их свадьбе воспоминания смутные. Самое отчетливое: мне слегка жмут туфли, мне неудобно в смокинге – отвык у себя в деревне от приличной одежды, да и от большого общества тоже. Шумные компании и семейные праздники решительно не для меня. Я сижу рядом с виновниками торжества и жду, когда, наконец, отзвучат приветственные речи и можно будет где-нибудь уединиться.
– Рене, хочу сказать спасибо, что приехал. Ты так хорошо говорил, лучше всех, самое приятное поздравление было твое.
Как же она хороша в своем серебристом длинном платье с диадемой на каштановых волосах, сегодня уложенных в сложную прическу. Наверное, в моих глазах отражается то, что не должно в них отражаться.
Какое-то время мы молчим. Я смущаюсь от своих несвоевременных мыслей. О чем думает она, даже не пытаюсь понять, боясь нафантазировать бог знает каких глупостей.
– И подарок твой самый лучший. Не то что все эти стандартные мясорубки и какие-то еще уродцы от Старка. От них, правда, Жиль в восторге, думаю, в ближайшие дни его с кухни не вытащить, будет осваивать и экспериментировать.
Я слегка краснею при упоминании о подарке.
***
– Паскаль, ты поможешь мне выбрать подарок? Пригласили на свадьбу, хочу подарить что-то нестандартное.
– Скажи честнее, что-то не очень дорогое, потому что денег, как всегда, кот наплакал, а произвести впечатление нужно. На кого: на него или на неё?
– На обоих. Паскаль, не мучай вопросами, лучше придумай что-нибудь.
Паскаль- это моя бабка, не разрешающая себя называть бабушкой. Это оскорбляет её женское и артистическое самолюбие, поэтому с детства привык называть её театральным псевдонимом. Согласитесь, Паскаль эстетичнее, чем Мелани. Я тоже так считаю.
– Если не ошибаюсь, подарок для того сумасшедшего, который ничего лучше не придумал, чем притащить жену из России. А ты говорил, что он само благоразумие.
– Послушай, во-первых, ничего особенно сумасшедшего в русской жене я не вижу. Не хуже вьетнамки или польки. Во-вторых, ты мне собираешься помогать или нет.
– Собираюсь, собираюсь, – Паскаль не без труда поднимается из глубокого кресла. Да, изящество дается ей теперь непросто, она ведь совсем стара, моя любимая Паскаль, острая на язык, порой откровенная до жестокости, но такая мудрая и … такая красивая.
Паскаль что-то ищет в недрах своей необъятной библиотеки. До меня доносится шорох бумаг, глухой стук переставляемых томов и тихое недовольное бормотание. Я не тороплю.
– Вот, держи. И тратиться не придется, и впечатление произведешь. Если не путаю, твои друзья начинающие коллекционеры. Надеюсь, оценят по достоинству. Альбом акварелей их известной персоны – Максимилиана Волошина. На мой-то взгляд, художество посредственное, но стоит недешево. Когда-то давно по случаю купила в России, а теперь вот пригодился.
– Спасибо, что бы я без тебя делал, я люблю тебя, Паскаль.
– Иди с глаз долой. Врать и льстить у тебя плохо получается. – Она воспроизводит свой коронный сценический жест «оставь меня навсегда» и берет в руки театральный журнал. Аудиенция окончена. Что Паскаль думает по поводу фоторамки, приобретенной на «аукционе» и нахально потеснившей родственников на каминной полке, она скажет позже.
***
На Жиля мой подарок, кажется, впечатления не произвел. Не удивительно. Уверен, что всё его «увлечение прекрасным прошлым» не более чем вычитанная где-то рекомендация о том, каким должен быть успешный бизнесмен, отвечающий требованиям к членам клуба «Я делаю свою жизнь образцом для зависти и подражания».
Кухня – другое дело. О, обманутый мой друг, я в вечном долгу перед тобой за паштеты, ризотто, террины, крем-карамели и бесчисленные шарлотки, которыми ты скрашивал наше существование в скудные студенческие годы, когда мы снимали на двоих малюсенькую квартирку в Бордо.
Я помню, как озарялось твое лицо, когда ты находил на полках затхлых букинистических лавчонок потрепанную книжку с «лучшими рецептами от …».
Я помню, как ты, приглушив звук, чтобы не слышали соседи, смотрел «вкусные» передачи, а потом отправлялся на кухню, куда входить запрещалось под страхом крупной ссоры, пока ты не закончишь колдовать над сковородками, мисками и кастрюльками.
Я помню, как сокрушался ты по поводу случайной кулинарной катастрофы. Как спрашивал: «Ну, как тебе?». И в этом твоем «Ну, как?» звучали гордость, надежда и волнение. В эти моменты ты был похож на Паскаль, которая, возбужденная и разгоряченная, вбегала в гримерку, куда я перебирался в антракте, – Ну, как тебе?
Мне всегда всё нравилось. Я не очень строгий судья.
– Тебе повезло. Муж, обожающий готовить, это просто находка.
– Можно считать, что мне вообще повезло. Вытащила лотерейный билет с выигрышем. Помнишь, я тебе говорила, что еще девочкой цель себе поставила – из России уехать. Не жить тамошней жизнью, скудной и скучной. Для меня однообразие и скука как удавка, не могу без новых впечатлений, без новых знакомых, на худой конец, хоть шторы и стулья поменять. – Она смеётся, а в её смехе мне чудятся грустные нотки, не приличествующие новобрачной.
– Ты счастлива? Любишь его?
– Разумеется, счастлива. И Жиля люблю. Он ведь славный, правда?
Мы еще делаем вид, что всё идёт и будет идти положенным чередом. Но для себя мы уже все поняли.
***
Я не могу точно сказать, когда это было, у меня всегда сложности с датами и цифрами. «Советую тебе занести дату своего рождения во все гаджеты, иначе в какой-нибудь ответственный момент ты не сможешь её вспомнить и начнешь блеять что-то невразумительное. А у тебя и без этого часто не самый умный вид, если не сказать идиотский», – Паскаль, как всегда, права в своей безжалостности.
Это произошло, когда на улице было пасмурно, мелко и противно моросило, а деревья в нашем саду еще не решили, стоит ли им уже выпускать первые листочки или еще лучше подождать.
Она стояла передо мной, замерзшая, мокрая, в совсем неромантичной куртке и джинсах, забрызганных нашей сельской грязью. Намокшие волосы, которые не закрывал сползший капюшон, мокрыми веревками падали на глаза, она тщетно пыталась их сдуть на лоб. Руки у неё были заняты. Еще бы, ведь в каждой руке по ручке от чемодана. Два огромных чемодана, кажется, такие тяжелые, что она с трудом их удерживает, еще чуть-чуть и просто бросит на влажную от весенней мороси дорожку.
– Что ты тут делаешь? И как ты меня нашла?
О, моя изысканно-артистичная Паскаль, ревнительница хороших манер. Тебе было бы за меня не просто неловко, ты бы умерла от стыда за мою невежливость, выходящую за привычные для меня рамки. «Может быть, ты все-таки с её поприветствуешь как полагается приветствовать женщину, даже если она пожаловала к тебе без приглашения и выглядит не очень привлекательно. И долго собираешься держать её под дождем?»
– Привет, – немного охрипший голос Ксани выводит меня из оцепенения. – Можно, я войду? Очень замерзла и промокла. Так хочу кофе с коньяком, иначе, кажется никогда не согреюсь.
Я отхожу от двери, перестав изображать банковского охранника на дежурстве, она входит в полутемный коридор. Нет, не в коридор и не в дом. Она опять вошла в мою жизнь, откуда просто отлучалась на некоторое время по не особенно важным и не особенно интересным делам.
В первый раз мы по-настоящему вместе. Я зарываюсь лицом в каштановую гриву, я целую глаза цвета благородного ореха, я ласкаю узкие покатые плечи, я покусываю маленькую грудь и сжимаю крутые, немного тяжеловатые бедра…
– Почему ты приехала ко мне?
Она не отвечает, просто подставляет для поцелуя пухлую нижнюю губу.
«Разумеется, она приехала к тебе. Полагаю, что ты единственный холостяк в их семейном окружении. К тому же рохля, у которого можно пожить бесплатно, пока не подвернется что-то более подходящее. Это же очевидно». Да, бабуля, это же так очевидно. Но самые очевидные ответы не приходят нам в голову, когда мы счастливы. А я был счастлив.
Три месяца того необыкновенного лета. Нашего оранжевого лета. Нашего оранжевого неба на руках. Три месяца нашего оранжевого счастья. Мы забросили работу, мы забыли о делах, мы ездили, куда глаза глядят, не имея ни конкретной цели, ни маршрута. Не зная вечером, где будем на следующий день утром. Знакомясь со случайными попутчиками, чьи имена и лица забывали навсегда, останавливаясь в забытых богом городишках и проводя ночи на скрипучих старинных кроватях. Наслаждаясь едой в дорогих ресторанах и деревенских забегаловках. Мы истратили свои скудные сбережения, и я даже решился попросить денег у Паскаль под «учти, ты своими руками урезаешь размер своего наследства». Наконец, закончились и они.
***
Звонок Жиля раздался, как всегда, рано утром. Не могу сказать, что совсем врасплох, к чему-то подобному я готовился. Как оказалось, готов я не был.



