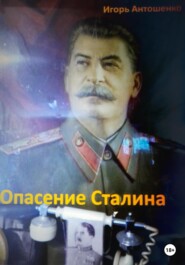 Полная версия
Полная версияОпасение Сталина
Не менее показателен и другой пример. «Другой род мануфактуры, её законченная форма, производит продукты, которые проходят связные фазы развития, последовательный ряд процессов; такова, например, мануфактура иголок, в которой проволока проходит через руки 72 и даже 92 специфических частичных рабочих».
Обратите внимание теперь, при новом укладе производства, для того чтобы изготовить не то что часы, иголку, требуется организовать и упорядочить совместную деятельность девяносто человек. Причем сделать это необходимо так чтобы труд, организованный по другому, соответственно в определенный промежуток времени, принес капиталу больше продукта, а стало быть и прибыли по сравнению с случаем когда это же количество рабочих будет изготавливать иголку от начала и до конца самостоятельно, естественно в рамках того же времени. Поскольку только в этом случае новый уклад производства, в рамках капиталистических ценностей, имеет смысл и будет существовать вместе с задействованными в нем представителями нового класса. Согласитесь при таком раскладе у промышленных офицеров задача управлять и организовывать имеет большее значение чем просто надзор – функция которую при этом также никто не отменял. Причем, в силу того что эти люди распределяют работу между участниками производственного процесса, они же распределяют и доли вознаграждения выделенного на оплату труда или, если использовать терминологию Маркса, рабочей силы, в том числе и себе. В этом и состоит их отличие от рабочих в способе получения доли общественного богатства, которым располагают.
Позвольте в этом месте повествования, прежде чем продолжить разговор об организаторах общественного производства, вернуться к весьма важной особенности разделения труда, возникающей при становлении промышленного капитала и впервые проявляющейся в рамках мануфактуры. Сначала разделение труда превращает человека, способного и изготавливающего необходимые для жизни вещи самостоятельно, в производителя какого либо одного продукта, обретающего статус товара. Затем, проникая внутрь товара, разделение труда из этого индивидуального продукта самостоятельного ремесленника, выполняющего многие операции, превращает товар в общественный продукт изготавливаемый группой лиц. Казалось бы, в этом нет ничего значимого, если бы не одна существенная особенность. На первом из указанных этапов разделение труда превращает обычные вещи в товары. Для того чтобы стать таковыми они должны быть изготовлены не для личного потребления, а удовлетворить потребность другого человека причем перейти в руки последнего обязаны посредством обмена. В силу чего, на этом уровне, разделение труда замыкается или если хотите, опирается на обмен. На следующем этапе, когда разделение труда расчленяет производство товара на частичные операции отдельных рабочих, продукт труда последних, скажем изготовителя циферблатов или пружин, тоже создан не для личного потребления, но он переходит в руки лица потребляющего его в ходе производственного процесса не посредством обмена, а благодаря распределению производственных функций. То есть, на этом этапе внутри мануфактуры или фабрики разделение труда опирается на распределение. А за распределением и обменом, помимо прочего, стоят различные классы, организаторы общественного производства и капиталисты. Более детально говорить о том какие последствия проистекают из этого предстоит позже.
Количественный рост класса организаторов общественного производства
Первоначально вновь зародившийся класс является угнетенным и эксплуатируемым капиталом. Собственно констатацию этого факта мы находим у Маркса, который отмечает что со временем буржуа «передаёт уже и функции непосредственного и постоянного надзора за отдельными рабочими и группами рабочих особой категории наёмных работников». Обратите внимание, здесь промышленные офицеры и унтер-офицеры, отделившись от рабочих, тем не менее, пребывают на положении хотя и особой категории, но, все же, наемных работников со всеми вытекающими из этого последствиями. Они подвластны капиталу. Подобное положение вещей не ново. В свое время, в условиях расцвета феодальных отношений, зарождающаяся буржуазия (третье сословие) находилась под давлением господствующего класса – земельных собственников. Совсем так же вновь возникший класс теперь уже в рамках капитализма пребывает на подвластном положении. В этой связи хотелось бы понять, в результате каких изменений со временем он займет господствующие позиции? Позже попытаемся по рассуждать на эту тему, а пока затронем один момент, имеющий к сему отношение, а именно поговорим о количественном росте класса управленцев. Причин обуславливающих данное явление много, рассмотрим основные из них.
На первом этапе и в первую очередь увеличение числа организаторов общественного производства вызвано ростом капитала. Совершая оборот за оборотом, последний приносит прибавочную стоимость. Если она используется капиталистом только для удовлетворения личных потребностей, то принадлежащее ему производство функционирует в прежнем масштабе и рост числа представителей вновь появившегося класса, обусловленный этим фактором, отсутствует. В случае же когда часть прибавочной стоимости расходуется на расширение производства ситуация меняется. Здесь со временем неизбежно происходит увеличение численности тех, кто контролирует, направляет, то есть организует труд рабочих. Подобная ситуация может развиваться по трем направлениям.
Экстенсивный путь. В его рамках производство увеличивается лишь в масштабе, но на большую массу рабочих требуется и большее количество управленцев. Кроме того, со временем на этом пути с целью экономии на оборудовании производство перерастает в работу в несколько смен, при этом число управленцев множится кратно.
Интенсивный путь. В этом случае капитал начинает присоединять к себе новые производства, например машин и сырья, задействованных в основном производстве и прежде приобретавшихся у иных производителей.
Третье направление представляет собой комбинацию двух только что названных.
Но, так или иначе, капитал постоянно стремиться к росту. Это способ его выживания в условиях жесткой конкурентной борьбы, так что он просто обречен плодить численность представителей нового класса. Иными словами объективные законы функционирования и развития капиталистических отношений ведут к увеличению численности организаторов общественного производства. Так что капиталисты сами, по емкому выражению Маркса, плодят если не своего могильщика (под ним Маркс понимал пролетариат) то как минимум того с кем в иерархии эксплуататоров предстоит поменяться местами.
Кроме того на начальном этапе становления капитализма свою лепту в рост класса управленцев вносит то обстоятельство что все большее число товаров начинает производиться новым способом, что к тому же порождает производную в этом процессе. Поскольку приходящий на смену ремесленному производству общественный уклад сокращает затраты времени на производство единицы продукции то это дает импульс к появлению новых потребностей, недоступных прежним производительным силам, изготовление которых также осваивает капитал для чего ему как и раньше необходимы промышленные офицеры.
Собственно говоря, если достаточно скрупулезно начать разбираться в этом вопросе то отыщется еще не мало обстоятельств, благодаря которым в рамках производственных необходимостей разрастается новый класс, но для того чтобы понять что этот процесс при развитии капитализма неизбежен достаточно уже указанных. Однако существуют и другие не производственные причины, ведущие к росту данного класса о которых имеет смысл упомянуть. Так любому человеку свойственно стремление уменьшать затраты времени на получение жизненных благ. Именно поэтому индивид становится буржуа, сначала освобождая себя от физического труда, а затем и от функций управления, если и не в полной мере то весьма значительно. Но это желание свойственно и управленцам. На определенных этапах они также избавляют себя от докучающих обязанностей, обрастая замами помощниками и т.п. Возьмите для примера депутата современной Думы и посмотрите, сколько людей выполняют ту функцию, которая, по сути, возложена на него, а для сравнения поинтересуйтесь, был ли такой штат у депутата Верховного Совета СССР, и увидите результат роста.
В далекие девяностые, когда основная масса населения продолжала черпать информацию из книг, в заводской библиотеке в руки попала увесистая работа иностранного автора, освещающая особенности организации управления современного производства с присущими проблемами этого процесса. К сожалению, имя автора и точное название книги не помню, но не это важно, в ней была довольно обширная глава посвященная проблеме разрастания белых воротничков (управленцев всех уровней). Там описывалось, как и почему со временем система управления предприятия либо корпорации обрастает дублирующими друг друга цепочками и связями. Что сказывалось на качестве управления, поскольку при этом персональная ответственность за результат размывалась, и как следствие росли издержки производства, в том числе и за счет содержания лишнего управленческого персонала. Автор предлагал, как меру противодействия этому, заказывать оценку эффективности менеджмента предприятия специализированным организациям, дабы сокращать управленцев до эффективного минимума и делать это следовало с периодичностью в несколько лет, в течение которых белые воротнички умудрялись возвращать «утраченные» позиции.
Но представители рассматриваемого класса зарождаются не только в недрах производства в связи с происходящими там изменениями, обусловленными появлением разделения труда сопряженного не с обменом, а с распределением. На предприятии основная задача управленцев распределять работу, а вслед за этим и доходы. Именно с функцией распределять связан новый класс, и где бы она не возникла там, и прорастают представители этого «сословия». В этом плане весьма интересна роль государства. Оно, как известно, является «аппаратом» поддерживающим господство определенного класса над прочими, с кем противоречия не могут быть примерены в силу их эксплуатации. Государство, даже в самых зачаточных формах, требует средств на свое содержание, а по мере того как система общественного устройства становится сложнее, разрастается и оно, требуя увеличения вложений в свое функционирование. Со временем, поскольку государство занято управлением общественными процессами, в нем появляются соответствующие министерства по различным направлениям, всевозможные регулирующие структуры и т.п. Средства на содержание этой разбухающей машины собираются в виде налогов, которые в итоге распределяются на всех ее представителей, а там где есть распределение, там существует и интересующий нас класс.
Со временем происходит еще одно интересное явление, разделение труда доходит до того что функции свойственные организаторам общественного производства сами разделяются. Одни преимущественно заняты управлением производственными процессами другие распределением материальных благ. Причем, и это важно понимать, любой, кто задействован в такого рода распределении является представителем этого класса вне зависимости связан ли он с производством материальных благ на прямую. Сейчас о такой категории лиц принято говорить, что они сидят на денежных потоках, хотя последнее не стоит понимать буквально распределение определенных материальных ценностей иногда может играть значительно больший вес и легко превращаться в денежную массу. В виду особенностей своей деятельности, которая в значительной мере удалена от производства, что обусловлено сложившейся системой разделения труда, этим людям становится не важно какой вклад они вносят в общественное воспроизводство. А их, ввиду указанной особенности, и не оценивают по этому показателю, принципиальным становится то, сколько можно отщипнуть или урвать как для себя, так и для перераспределения в пользу тех от кого зависит его пребывание на этом месте. Кстати, те, кто распределяет эти места, также относятся к этому классу.
Разделение труда опосредованное распределением и важная тенденция в общественных отношениях вызванная его появлением.
В рамках капиталистического производства с появлением мануфактуры разделение труда получает новую возможность развития. Теперь оно раскалывает на составляющие процесс производства товара, закрепляя выполнение каждой обособленной функции за отдельным человеком. Прежде их одну за другой последовательно выполнял один ремесленник, и это деление его труда на особые операции являлось естественной предпосылкой последующего шага в развитии способа производства жизненных благ. В итоге, в рамках мануфактуры, а далее в пределах практически любого организованного по капиталистическому принципу производства, продукт труда задействованных там работников не перетекает из рук в руки посредством обмена его движение обусловлено распределением, на котором зиждется присутствующее здесь разделение труда. За пределами мануфактуры либо фабрики изготовленные товары продаются, то есть перемещаются благодаря обмену, попадая в сферу влияния разделения труда опосредованного этим процессом (окунаясь в рыночные отношения). В итоге на этом этапе развития имеем два различающиеся по сути проявления одного и того же процесса. По мере разрастания капиталов в системе общественных отношений происходит перераспределение между ними. Разделение труда, опирающееся на распределение, отвоевывает все новые и новые позиции, увеличиваясь в объеме. Чтобы понять о чем идет речь представьте ремесленную мастерскую, где такое разделение труда отсутствует, образно говоря равно нолю, а затем мануфактуру, скажем часов, где оно уже обладает неким положительным значением, до которого увеличивается по мере того как капиталист нанимает и задействует в своем производстве по ходу накопления капитала большее число рабочих.
По своей природе капитал всегда стремится к росту, в этом кроется принцип его «выживания» в условиях конкуренции. В результате одни владельцы капиталов из мелких производителей вырастают в представителей среднего, а иногда и крупного бизнеса, другие пополняют ряды пролетариата, уступая свою нишу на рынке. По этой причине капитал в идеале стремится подмять под себя все прочие производства в сфере своей деятельности, сначала в области изготовления некого одного товара или группы однотипных товаров, а затем, по мере возможности пристегнув сюда же производства необходимого оборудования и сырья. Появление монополий тому свидетельство. А затем, «оккупировав» в своей сфере внутренний рынок страны, а возможно, и выйдя за ее пределы и утратив возможность расширения в этой области, он совершенно так же, по прежнему стремясь к росту, начинает осваивать иные сегменты общественного производства. А теперь позвольте предложить Вам пофантазировать, учитывая данную тенденцию, и представить что некому индивиду в некой стране (какому-то олигарху) удалось замкнуть на себя все виды производства. Безусловно, подобное предположение намерено, загнано в крайнее положение, чтобы продемонстрировать конечную точку упомянутой тенденции. Но даже оно не должно казаться таким уж невозможным, поскольку некоторые из ныне существующих транснациональных корпораций по численности задействованных в них работников оказываются больше отдельных государств, а десятая доля населения планеты, если верить статистике, обладает девяносто процентами всех богатств. Однако вернемся к нашему предположению, в результате такого разрастания капитала мы получим страну-фабрику внутри которой практически все распределяется за исключением может незначительной доли продуктов личного потребления работников, покупаемых на причитающуюся им оплату за труд, именно здесь и будут ютится остатки обмена. Если конечно в качестве этой оплаты им не распределят продукты, произведенные на этом всеобъемлющем производстве, где все изготавливается по некому плану, в том числе и рабочая сила. А теперь вспомните СССР с его плановой экономикой, где не малое число благ распределялось через общественные фонды потребления. Есть сходство? Только наша бывшая страна к такому результату пришла посредством революционных преобразований, но ход эволюции производства жизненных благ, похоже, ведет к тому же результату. Тенденция такова, что распределение вытесняет обмен. Кстати в приведенном примере происходит забавная вещь, капиталист сумевший собрать воедино производство некой страны убивает в себе буржуа, теперь, он организатор общественного производства, пребывающий на вершине распределительных отношений. Причем, вместе с этим и принадлежавший ему капитал в этой ситуации становится чем-то другим.
Если посмотреть на Советский Союз с точки зрения тенденции, возникающей и развивающейся в условиях капитализма, то, как ни странно, получается что у нас волею обстоятельств или провидения организовался самый передовой экономический строй, показывавший чудеса роста. Но проблема его состояла в том, что он оказался очень зависим от личности, пребывающей на вершине управленческой пирамиды. Здесь как у пчел если матка никчемная, то семья сойдет на нет и в результате погибнет.
Отъем пальмы первенства у буржуазии
В этом месте повествования закономерно возникает вопрос. Как обстоятельство что распределение «поджимает» обмен, сказывается на роли завязанных на этих процессах классов? Прежде речь уже шла о том, что по мере развития капиталистических отношений число представителей класса организаторов производства объективно растет, причем более значительными темпами, чем увеличение самих буржуа. Но само это явление напрямую никак не ведет к тому что указано в заголовке. В самом деле, к примеру, количество крестьян больше чем земельных собственников но, не смотря на это, вторые господствуют над первыми. Так как же в таком случае капитал уступает ведущую роль управленцам? Кстати, в свое время, будучи третьим сословием, аккумулировав в своих руках денежные средства намного превышающие богатства земельных собственников и опираясь на них, буржуазия проделала ровно такой же трюк, выдвинувшись на лидирующие позиции. Но как это удалось управленцам? То что государственные чиновники довлеют над представителями крупного бизнеса, не говоря уже о шелухе в виде среднего и мелкого, факт, имеющийся на лицо и не требующий доказательств.
Попробую представить на суд свое видение произошедшего и, говоря о классе организаторов общественного производства, начну с работников госаппарата входящих в его состав. Существуют они на налоги, которые к тому же распределяют. Поначалу представители данного класса буквально кормятся с рук буржуазии, но затем, со временем, имея возможность влиять на размеры собираемых налогов, осознают что обладают механизмом позволяющим ограничивать доходы капитала, увеличивая в противовес долю притекающую к ним на распределение. Причем отчасти это происходит в правовом поле, когда издаются соответствующие законы, которым представители иных классов, в том числе и капитала, вынуждены подчинятся. Либо происходит по теневым коррупционным схемам, когда чиновники получают откаты за принятие нужных решений и т.п. Причем на западе это даже узаконено и именуется лоббированием интересов. Но, так или иначе, сначала капитал попадает в зависимость от представителей этого класса, а со временем оказывается под их властью.
В рамках предприятия это движение происходит иначе. Для примера рассмотрим два разных случая. По мере того как развиваясь капиталистические производства становятся сложнее значение управления возрастает кратно. Это уже не просто надзор, от правильной организации производства теперь во многом зависит доходность предприятия и способность выживания в условиях конкуренции. Осознавая это пока еще формальный хозяин бизнеса вынужден подыскивать соответствующий управленческий персонал, в первую очередь верхнего эшелона, неся существенные траты на его содержание. Конкурентная борьба в этом сегменте рынка труда, когда толковых специалистов пытаются переманить, ведет к тому что доходы управленцев этого уровня постоянно растут, но и это не дает гарантии что ценный работник не будет утрачен. Однако привязать нужного человека к предприятию можно, сделав его частично собственником. Что во многих случаях со временем и происходит. Если раньше капитал первоначально освободил себя от физического труда, а со временем и от управленческих функций, то теперь он вынужден делегировать представителям класса организаторов производства часть прав на свою собственность. Забавно, не правда ли? Рассмотрим второй вариант. Стремясь расширить производство с целью «отвоевать» большую часть рынка, выдавив конкурентов, капитал прибегает к заимствованию денежных средств либо у банков, либо, создавая акционерные общества с советом директоров, в который входят высшие менеджеры. Роль хозяев капитала, который теперь не связан с одной личностью, образно говоря, размывается, а влияние топ менеджеров возрастает. Теперь, по сути, они распоряжаются собранным в складчину капиталом.
Разделение труда и классы
Поскольку появление класса организаторов общественного производства, как оказалось, сопряжено с определенным уровнем в развитии разделения труда, тогда, во времена учебы, возник вопрос. Как с упомянутым процессом коррелирует существование всех прочих классов? О том, что указанные явления взаимосвязаны, говорило как само определение классов, представленное Лениным в работе «Великий почин», «Классами называются большие группы людей, различающиеся…», а дальше перечислялось все то, что существует благодаря разделению труда, начиная с места в системе общественного производства, отношения к средствам производства, частной собственности на последние и т.п. А также присутствующее в тексте упоминание о том «… что это значит «уничтожение классов»? … Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и людьми умственного труда». Заметьте из этого высказывания Ленина следует что для того чтобы прейти к бесклассовому обществу необходимо избавится или точнее преодолеть разделение труда которое помимо прочего заключается в различиях между городом и деревней умственным и физическим трудом и т.п. Формально тем самым автор говорит, что классы существуют благодаря разделению труда. И если это обстоятельство, даже без всех приведенных ссылок, практически было очевидным, то указание на его преодоления вызвало определенного рода сомнения. Нет, для того чтобы уничтожить классы это было необходимо. Но беспокоил вопрос. Возможно ли изжить разделение труда? Ведь с одной стороны сам этот процесс возник из различия в способностях людей выполнять те или иные виды работ, ввиду разных как минимум физических возможностей, а также отличий в условиях их проживания. То есть из объективных обстоятельств, воссозданных природой которые со временем никуда не деваются. С другой стороны, все развитие не только производительных сил, но и самой цивилизации, что невозможно отрицать, обусловлено разделением труда. Несколько позже ответ на этот вопрос нашелся, когда была предпринята попытка выстраивания той самой теории, о которой речь шла в самом начале. А пока из полученных результатов стали вырисовываться проблемы, ломавшие в определенной мере навязанную систему взглядов на нынешнее состояние общества, хотя до этого, все, что излагали на лекциях, воспринималось как должное. Попробую обратить Ваше внимание на некоторые из них.
Так существование государства, а вместе с ним и обнаруженного класса организаторов общественного производства доказывало, что классовые противоречия, доходящие до антагонизма (непримиримые противоречия), обусловлены не только частной собственностью на средства производства. Общественная собственность на последние не исключает такого положения дел. При социализме, по закону, средства производства в равной мере принадлежат всем, а не только управленцам, но именно они ею распоряжаются ввиду действующей системы разделения труда.
В этой связи получалось что Октябрьская революция, которая как полагали проложила путь к уничтожению эксплуатации будучи социалистической, на деле сменила один эксплуататорский класс другим. Диктатура пролетариата, в теоретических рассуждениях обреченная стать стержнем государства, после социалистической революции обернулась диктатурой организаторов общественного производства (управленцев). Да, пролетариат был движущей силой этой революции, но ее плоды упали отнюдь не в его руки. Собственно говоря, в таком положении дел не было ничего удивительного совсем также крестьянская масса, крушившая прежний экономический уклад в ходе буржуазной революции, расчищала дорогу господству капитала, а не своему. Единственное что досталось пролетариату в награду за совершенную революцию была марксистская идеология, которая накладывала на управленцев существенные ограничения во взаимоотношениях с другими классами. Хотя она не соответствовала интересам эксплуататоров, но именно ею организаторы общественного производства, пользуясь как щитом, долгое время прикрывали свою истинную суть. Даже компартия, позиционирующая себя как партия рабочего класса, не была таковой. То, что основное число ее членов были рабочими, не играло никакой роли. Массовка ничего не решала, власть в партии находилась в руках партийной номенклатуры принадлежащей к господствующему классу. Даже то обстоятельство, что многие в ней были выходцами из рабочих и крестьян, не меняло положения вещей, ведь социальное происхождение и социальное положение не одно и тоже. Что именно партийные бонзы решали чему быть, а чему нет, показала последующая история, когда общенародный референдум проголосовал за сохранение Союза, а управленческая верхушка его развалила.



