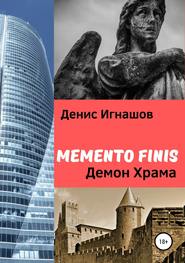 Полная версия
Полная версияMemento Finis: Демон Храма
– Он здесь? ― заинтересованно спросила Света.
– Кто?
– Полуянов.
– Да, он здесь, в Москве… и с ним Карина, ― ответил я после некоторого раздумья.
– Где они?
– Этого я не знаю, но хочу их найти.
– Русланчик, боже мой, что творится вокруг? Почему их ищут? Зачем им ты? Кто убил Сергея?
– Ты думаешь, Сергея убили?
– Это не может быть несчастным случаем… Я уверена, его убили… Что бы ни было между нами, ведь мы с ним прожили несколько лет. Он всё-таки был частичкой моей жизни и был дорог мне. Как ни крути, а я его любила… когда-то в прошлом…
Я глупо кивнул, совсем не зная, что можно было ответить Свете. Попытаться утешить, поддержать её? Все слова растаяли в тяжёлом беззвучии. Я молчал, виновато уставившись на носок своего ботинка.
– Чем я могу тебе помочь? ― спросила она.
– Кто искал Полуяновых и меня?
– Они приходили дважды, ― ответила Света. ― Сначала какой-то майор ФСБ… Его фамилия была Сарычев. Его интересовала в основном Карина. Спрашивал, где она может находиться, есть ли у неё друзья, говорили ли мы когда-нибудь об её отце. Этот майор про тебя спрашивал, но как-то вскользь, особо не интересуясь… Просил позвонить, если что вспомню. Разговор был очень короткий. Что я могла ему рассказать? С Кариной мы хоть и сёстры, но родство наше не близкое, и виделись мы не очень часто. О Вячеславе Полуянове мы с ней никогда не говорили, друзей её я не знала и не знаю… Потом через несколько дней появился следователь…
– Следователь?! ― удивился я.
– Да, следователь из милиции… Фамилия его была, кажется, Иваненко. Он очень подробно расспрашивал о тебе.
– Следователь спрашивал только обо мне?
– Большей частью о тебе. Он сказал, что ты пропал без вести. Есть заявление от родственников, и милиция тебя ищет… Его интересовал круг твоих знакомств, ― неуверенно ответила Света.
– Он показал своё удостоверение?
– Не помню… Кажется, да. Это важно? ― Света обеспокоенно посмотрела на меня.
Я не верил в особый интерес милиции ко мне, не верил в заявление родственников. Это были, скорее всего, те самые ребята из джипа. Похоже, у них твёрдая хватка и большие возможности.
– Как он выглядел?
– Среднего роста, светловолосый, крепкий мужчина в сером костюме… В общем, ничего примечательного. И взгляд такой особый, милицейский, что ли…
– Что ты ему рассказала? ― Мои слова неожиданно приобрели жёсткость.
– Ничего… А что я могла рассказать? Среди твоих друзей и знакомых я только Сергея и знала,― испуганно ответила Света. ― Я вообще не понимаю, что происходит. Я просто боюсь…
Я вздохнул, печально оглядев двор. Ветви тополя призывно зашуршали листьями – ветер усиливался. Молодые мамаши, заинтересованно общавшиеся до этого друг с другом, стали вытаскивать из песочницы своих малышей и собирать разбросанные игрушки, обеспокоенно посматривая на небо. Вот-вот должен был пойти дождь.
– У тебя всё нормально? ― осторожно спросила Света, заглядывая мне в глаза.
Я равнодушно кивнул.
– Ты куда сейчас? Домой?
Не смог сдержать глупую улыбку и как-то неопределённо пожал плечами. Я не знал, куда могу пойти и что делать дальше. Образовалась какая-то безразличная пустота. Вдруг я вспомнил Софью Петровну, наш с ней разговор, её слова о дяде Вячеслава Полуянова, некоем учёном-историке.
– А Вячеслав Полуянов тебе будет двоюродным дядей? ― неожиданно спросил я.
– Наверное, так. Он двоюродный брат моей мамы.
– А дедушки у тебя есть?
– Были… ― удивлённо протянула Света, ― Оба умерли, ещё когда я была маленькой… У меня есть бабушка – Елена Петровна… Она жива.
– Она родная сестра Софьи Петровны Полуяновой?
– Да.
– А брата у них не было?
– Был. Их в семье трое было – две сестры и брат.
– А где он сейчас? ― с надеждой спросил я.
– В Москве.
– Он историк?
– Не знаю точно… Он преподаёт в МГУ. Профессор.
Я замер.
– Как его зовут?
– Ракицкий… Стефан Петрович Ракицкий, ― ответила Света, изумлённо наблюдая, как я, открыв рот, медленно поднялся со скамейки.
Дождь лил как из ведра, обрушившись на город частыми и длинными косыми нитями воды. Я стоял под прозрачным козырьком трамвайной остановки около метро «Сокол» и смотрел, как мимо меня проносились автомобили, выплёскивая на тротуар прямо мне под ноги грязную воду. Где-то рядом прогремел гром. Ухнуло так, что многочисленные пассажиры и просто прохожие, стоявшие рядом со мной и прятавшиеся от ливня, инстинктивно оглянулись на грохот. Я поёжился – стало прохладно. При выходе из метро я успел попасть под дождь и насквозь промок. Сжавшись от холода и скрестив на груди руки, я неподвижно стоял под пластиковым укрытием, невидящим взглядом уставившись на лившиеся с разверзшихся небес потоки воды.
После разговора со Светой я не мог не навестить своего научного руководителя. То, что я узнал от неё, поразило меня. Профессор Ракицкий, мой научный руководитель, был родным дядей Полуянова! Мне с трудом в это верилось.
Странный событийный ряд, сделав загадочный круг, привёл меня обратно к человеку, встреча с которым и дала старт моим похождениям. Ведь именно он посоветовал мне прочесть книгу Полуянова и встретиться с Андреевым. Он не мог не знать реального автора «Рыцарей Храма». На его примере учёного-историка воспитывался и обретал интерес к этой профессии молодой Полуянов. Теперь стало абсолютно понятно, почему генерал Пахомов удивительным образом вспомнил среди своих преподавателей именно Ракицкого. Всё было связано. Случайностей не существует, есть перекрестки путей, в которых кто-то за нас выбирает направление следующего движения. Мы можем сопротивляться или подчиниться воле вновь появившихся обстоятельств, но прежде мы должны понять их логику.
Как и следовало ожидать, сильный ливень скоро прекратился, вероятно, сделав некоторую передышку до наступления ночи. Дом Ракицкого находился всего в ста метрах от метро «Сокол». Мне уже приходилось бывать в квартире у научного руководителя, и не раз. Он жил один в небольшой двухкомнатной квартире. Быстро пройдя переулок, скоро я оказался у знакомой двери.
– Руслан? ― Лицо Ракицкого от неожиданности вытянулось.
Профессор в потёртых старых штанах, распахнутой пёстрой домашней рубашке поверх майки и стоптанных тапочках был совсем не похож на того строгого преподавателя, каким я привык его видеть в стенах университета. Передо мной стоял пожилой сонный мужчина, в близоруких глазах которого читалось откровенное изумление.
– Ну, проходите, проходите, молодой человек, ― оглядев меня с ног до головы, сказал наконец Ракицкий и слабым движением руки предложил пройти внутрь. ― Вы совсем мокрый. Давайте сюда вашу куртку и рубашку.
Я хотел было возразить, но Ракицкий решительно потребовал снять одежду. Получив её, он на некоторое время скрылся, видимо, чтобы повесить мою куртку и рубашку подсушить. Вернулся он со старой фланелевой рубашкой в руках и протянул её мне. Пришлось примерить на себя домашнее профессорское одеяние. Из коридора мы прошли к нему в кабинет.
– Что-то случилось? ― спросил профессор, предложив мне сесть на стул.
Казалось, он был искренне удивлён моему приходу. Действительно ли он ничего не подозревал или только искусно делал вид, что ничего не знает? Я смотрел в глаза Ракицкому и не мог определиться с ответом.
– Я хотел бы поговорить с вами о вашем племяннике, о Вячеславе Полуянове, ― сразу перешёл я к главному.
Ракицкий понимающе кивнул, как будто давно ожидал этого разговора.
– Теперь я всё понял… ― пробормотал он задумчиво и добавил: ― Он всё-таки втянул вас в эту авантюру…
– Авантюру?! ― удивлённо переспросил я.
– Ну да. А как ещё можно назвать ситуацию, в которой вы сейчас оказались… Типичная авантюра.
Я мог по-разному определить своё теперешнее положение, но «авантюра»… Слишком легкомысленным и несерьёзным казалось мне это странное слово, произнесённое профессором.
– Погиб мой друг, пропала моя любимая девушка, я сам спасаюсь от преследования! И всё это вы называете авантюрой?! ― воскликнул я.
Ракицкий грустно посмотрел на меня.
– Я подозревал, что его интерес может быть опасным, но не думал, что настолько… Вы видели Полуянова? ― спросил профессор и сразу произнёс, не дав мне даже ответить: ― Впрочем, этого следовало ожидать…
– Ожидать чего? ― настороженно спросил я.
– Развития этой странной истории
– Вы знали, что Полуянов приехал в Москву?
– Нет, не знал, – сказал уверенно Ракицкий, – но подозревал.
Профессор, не торопясь, обогнул большой письменный стол и устало опустился в широкое кожаное кресло.
– Предполагаю, на вас сейчас открыта настоящая охота, ― совсем спокойно и как-то обыденно сказал он. ― И думаю, не ошибусь, если скажу, что причиной тому стало некое письмо… Не так ли?
– Да, это так. Но позвольте…
– Я прекрасно понимаю ваши чувства, Руслан, ваше недоумение, ваш страх и обиду, но что произошло, то произошло. Вы оказались втянуты в одно странное и загадочное дело, и теперь вправе узнать все его подробности.
– Да уж, если возможно, ― не без язвительной иронии бросил я, убирая со лба мокрые волосы.
– И как выглядит мой племянник? ― неожиданно спросил Ракицкий. ― Знаете ли, Руслан, двадцать лет его не видел… Любопытно.
– Выглядит он совсем неплохо, ― резко отрезал я, вспомнив подобный наивный вопрос Софьи Петровны.
– Да, естественно, ― тихо пробубнил себе под нос профессор. ― Столько лет прошло… А я запомнил его совсем юным мальчиком. У него были на редкость пытливый ум и яркое воображение…
– Вы хотели рассказать о письме, ― напомнил я Ракицкому.
Профессор отвёл взгляд и провёл рукой по своим редким седым волосам, пытаясь хоть как-то пригладить жидкие торчащие лохмы на своей голове.
– Ну да, письмо… ― задумчиво сказал он и откинулся в кресле. ― С него-то собственно и началась эта печальная история… Мой отец, его дед, Пётр Ракицкий подарил письмо Славе, когда тот был ещё совсем маленьким мальчиком. Оно было своеобразной реликвией фамилии, переходящим символом смены поколений. О его существовании за пределами дома не было принято говорить, но внутри семьи все знали об этом странном ритуале. Содержание письма тоже не представляло собой некой абсолютной тайны, хотя об этом тоже старались не распространяться, пытаясь поддерживать странное сакральное чувство вовлечённости в общую традицию семьи. В этом, в общем-то, не было ничего необычного. Во многих семьях до сих пор существует обычай передачи от старших младшим своеобразного талисмана фамильной общности. В принципе, это может быть любой предмет – часы, драгоценности, книга, статуэтка… У нас это было письмо. Видите ли, Руслан, наши предки были родом из Франции и появились в России в восемнадцатом веке, спасаясь от революционных репрессий молодой республики. Тогда в России обосновалось много гонимых выходцев из охваченной пожаром Франции. И так уж сложилось, что единственной вещью, сохранившейся с тех времён и приобретшей значение фамильной ценности, стало это странное послание средневекового канцлера Ногаре. Пересказывать его не имеет смысла, – подозреваю, вы читали его… Не правда ли? – Ракицкий испытующе посмотрел на меня. – По крайней мере, перевод… Он, кстати, сделан моим отцом с латыни, и сделан очень профессионально. Старик прекрасно знал латынь и французский язык, был большим любителем французской истории и литературы. Но справедливости ради надо заметить, что в общем котле его русской, венгерской, татарской и немецкой крови французская капля была совсем незаметна.
– И вы никогда не пытались сделать информацию, содержащуюся в письме, достоянием гласности? ― удивлённо спросил я. ― Ведь вы же историк. Вы же понимаете, что этот документ представляет собой великую историческую сенсацию.
Ракицкий утвердительно покачал головой:
– Руслан, я прекрасно понимаю ваши чувства. Вы правы, сложно побороть в себе это всепоглощающее научное тщеславие и желание признания в учёном сообществе. А тут такой материал… Я не раз ловил себя на мысли, что письмо могло сделать меня знаменитым. Но всегда брала верх и останавливала меня семейная солидарность. Публичность уничтожила бы навсегда этот трогательный ритуал приобщения к корням в нашем семействе, разрушив нити, которые связывали нас. И потом, существовало одно немаловажное обстоятельство, которое делало представление этого письма научному сообществу бессмысленным. Впрочем, на этом я остановлюсь позже…
Итак, Слава получил нашу реликвию в подарок. Когда он смог понять всю ценность информации, которую содержало письмо, авантюрное чувство исторической тайны навсегда завладело им. Тамплиеры стали его фетишем, а идея поиска их реликвии овладела его разумом. Письмо Ногаре не только открывало нам тайны процесса храмовников, но и ставило вопросы, главным из которых был вопрос: что представляла собой реликвия тамплиеров?
– И что же это было? ― нетерпеливо спросил я.
– Разве вы не знаете? ― откровенно удивился профессор. ― Слава вам не сказал об этом?
– Нет.
– Странно… ― Ракицкий щёлкнул языком. ― Именно ответ на этот вопрос составлял его особую научную гордость. Этим открытием он в своё время поделился с Андреевым, но тот осмеял его догадку… Слава исходил из предположения, что намёк на особый характер реликвии лежит на поверхности – он скрыт в самом названии ордена тамплиеров.
– Орден Бедных Рыцарей Христовых Храма Соломона. Но где здесь зарыт тайный смысл? В каком слове?
– В последнем.
– Но это не новость. Уже масоны говорили об особой связи между тамплиерами и легендарными каменщиками Хирама Сидонского, построившими Храм Соломона. Многие исследователи утверждали, что тамплиеров связывало с Храмом не только место их первоначального обитания в Иерусалиме, но также особый дух сообщества и тайные знания.
Ракицкий отрицательно покачал головой.
– Я говорю не о Храме, а о царе Соломоне.
– Но что же ещё, как не сам Храм или память о нём, могло связывать тамплиеров с легендарным древним царём?
– Одна небольшая вещь.
– Реликвия, обладающая силой подчинения зла? ― вспомнил я рассказ Полуянова.
– Вы повторяете его слова, ― заметил Ракицкий, хитро прищурив глаза.
– Что же это было?
– Ответ лежит на поверхности… Впрочем, я совсем не хочу испытывать вас на сообразительность… По мнению Славы, этой знаменитой и таинственной реликвией тамплиеров был легендарный перстень царя Соломона.
От неожиданности я на мгновение опешил.
– Вы шутите?! – не удержался я от восклицания.
– У меня была точно такая же реакция, когда я впервые услышал это. – Ракицкий улыбнулся. – Я и сейчас считаю эту версию абсолютно мифической, не имеющей никаких реальных доказательств. Но Славе подобное объяснение совсем не казалось сказочным. Более того, он был уверен, что подобное истолкование может быть подтверждено историческими документами и ключом к этому может служить письмо Ногаре. Инициатором рыцарской экспедиции в Иерусалим, по мнению Славы, был Бернар Клервоский, который каким-то образом, вполне возможно, от иудаистских священнослужителей, с которыми он общался, получил информацию о местонахождении реликвии в подвалах мечети Аль-Акса.
– Но почему именно перстень Соломона? В письме нет никаких намёков на это.
– Мне сложно это объяснить. Письмо Ногаре стало лишь основанием для дальнейших поисков Славы. Возможно, это решение связано с его теорией утверждения и распространения дуалистического мировоззрения, которое он приписывал и тамплиерам.
– Какое же отношение катарская ересь имеет к царю Соломону?
– Соломон был не только легендарным царём, строителем первого Храма в Иерусалиме и священным персонажем Ветхого Завета. Он также стал героем многочисленных апокрифических, не признанных официальной церковью, но чрезвычайно распространённых среди многочисленных дуалистических ересей текстов. Предания рисуют Соломона умным и справедливым правителем, наделённым особым божественным даром вещей мудрости. Он обладает множеством уникальных способностей, знает язык зверей и птиц и может управлять демонами. Для исполнения последнего ему и был дан ангелом знаменитый изумрудный перстень с выгравированным на нём именем Бога. Перстень заключал в себе особую силу подчинения зла. И только благодаря силе перстня Соломону удалось построить первый Храм. Об этом говорит известная мифическая история о Соломоне и Асмодее, ветхозаветном демоне ярости, вожделения и мести.
По древней легенде Соломон использовал свой перстень, чтобы заставить работать на себя демонов во время строительства Храма. Так, с помощью своего перстня Соломон заставляет раскрыть демона Асмодея секрет червя шамура, с помощью которого можно было рассекать камни без применения железных инструментов, запрещённых при строительстве Храма. Соломон хитростью пленяет могущественного демона и требует от него рассказать о том, где можно найти червя шамура. Асмодей не в силах сопротивляться царской воле, подкреплённой силой магического перстня. Во время встречи царя и демона происходит их поединок мудрости, в котором Соломон, могущественнейший и мудрейший из людей, уступает в даре предвидения Асмодею. Соломон оставляет у себя демона в заключении до окончания постройки Храма. Легенда гласит, что однажды ослеплённый своей гордыней Соломон, уверенный в несокрушимом могуществе своей власти, предложил Асмодею взять его перстень. Асмодей, сразу же обратившись Соломоном, изгнал царя из города и правил Иерусалимом сорок дней. Царю Соломону с помощью мудрецов и книжников с трудом удалось вернуть свой престол и перстень, но страх перед Асмодеем у него остался навсегда. Этот страх усиливался у него ночью, и потому он ложился спать только в окружении шестидесяти верных воинов.
Эта тема испытания могущества не только царской силы, но и царской мудрости была очень популярна в мифическом сознании древности. Существует большое количество версий этого сказания, которые, не изменяя сути сюжета, описывали по-разному детали мифического пересказа. Можно по-разному трактовать особый смысл этого предания, но многие видели в нём намек на тщетность земных сил человеческих перед лицом могущества зла, когда люди, теша себя сознанием своей силы, без божественной поддержки хотят утвердить себя истинными властителями сущего. Вообще, идея соприкосновения добра и зла, вопрос преходящей суетности земного могущества чрезвычайно характерны для дуалистического мировоззрения. И в целом понятно, почему отречённые предания о Соломоне, как и множественный ряд других апокрифов, таких, как «Сказание о Крестном Дереве» и «Вопросы Иоанна Богослова Господу», утвердились в среде ересей.
– Но неужели можно отождествить реального исторического царя Соломона и его мифический образ древних сказаний?
Ракицкий улыбнулся.
– Вы правы, Руслан, – сказал он. – Мифы, как плод художественного сознания, вряд ли могут стать однозначным некритическим подспорьем для исторической науки, но в них мы можем услышать эхо исторической памяти, увидеть загадку, скрытую под толщей мистического воображения. Недаром мотивы сказаний о Соломоне и демоне Асмодее проникли и утвердились во многих национальных преданиях. В мусульманских легендах роль Асмодея выполняет шайтан Сахр. Вспомним славянское сказание о Соломоне и Китоврасе, практически дословно повторяющее древнееврейскую историю. Китоврас в нём, наделённый особым демоническим умом, вызывает не только страх, но и некоторое сочувствие своим положением заключённого. В средневековых немецких сказках черты Асмодея мы можем заметить в странном герое народного эпоса Морольфе, хитром цинике и пересмешнике, который, с одной стороны, стремится принизить возвышенное, посмеяться над священным, но, с другой стороны, раскрывает и наказывает пороки, показывая пример особой шутовской традиции в народной смеховой культуре. Да что там говорить! Сам Мерлин, магический герой британских легенд, обнаруживает некоторое сюжетное и описательное сходство с талмудическим Асмодеем. Он рождён невинной девушкой от демона и, в противовес Иисусу Христу, призван стать проводником сил зла на земле. Но получается так, что Мерлин, искуплённый невинностью своей матери, встаёт на сторону добра, сохраняя тем не менее демоническую способность предвидения и нечеловеческую силу ума… По большому счёту, именно многоликий Асмодей (Морольф, Китоврас, Сахр, Мерлин), а не Соломон, становится со временем главным героем народных сказаний о противостоянии мудрого царя и демона-нигилиста.
И тут, полагаю, стоит поподробнее остановиться на этой удивительной мифологической личности. Это весьма примечательный демон. Он был известен ещё в древней иранской мифологии под именем Айшма-дэв (дух гнева, дух суда) и являлся одним из самых могущественных духов зла. Именно оттуда, из зороастрийских представлений древних персов, образ Асмодея перекочевал в иудаистскую мифологическую традицию и прочно там закрепился. В книге Товита архангел Рафаил спасает жизнь благочестивого Товия от ревности злого духа Асмодея. Товия должен был жениться на Сарре, семь предыдущих мужей которой были последовательно умерщвлены Асмодеем в брачную ночь. Архангел Рафаил помог Товию избавиться от Асмодея и прогнать его, сделав курение из сердца и печени рыбы. Однако это была не самая известная история, в которую был замешан демон Асмодей. По-настоящему знаменитым его сделало именно противоборство с Соломоном…
Происхождение Асмодея согласно иудейской традиции было очень туманным. По распространённой версии он был плодом связи смертной женщины и падшего ангела. В каббале Асмодей был пятым из десяти архидемонов. За ним закрепилась особая роль демона блуда и ярости. По Р.Бёртону он князь четвёртого чина демонов, у него особая миссия «карателя злодеяний»… Не правда ли, удивительная роль для князя тьмы! Согласно другим данным Асмодей опекает игорные заведения и может предсказывать будущее… Удивительна трансформация мифологических представлений об Асмодее. Из мстительного злобного духа, одержимого яростью и ревностью, коим он представлялся в книге Товита, Асмодей превращается в демонического философа, по глубине своей мудрости способного не только противостоять самому мудрому из людей – Соломону, но и, используя человеческие слабости последнего, превзойти его в мудрости, победить и наказать за гордыню. Именно такой образ Асмодея, жестокого мудреца и безжалостного карателя человеческих слабостей, и закрепился в поздней мифологии и средневековых народных легендах. У некоторых художников Нового времени Асмодей превращается в положительного героя, помогающего людям. Так, Асмодей в известном романе восемнадцатого века Алена Рене Лесажа «Хромой бес» помогает главному герою и устраивает его семейное счастье. Здесь бес, кроме того, что восстанавливает справедливость и творит добро, выступает ещё изобретателем каруселей, танцев, музыки, моды… Любопытное изменение роли! И, как видите, опять характерный дуалистический мотив в мифологии, смешение белого и чёрного, добра и зла, света и тьмы, которые как некие субстанции имеют вполне самостоятельное существование и, смешиваясь, формируют образ, обнаруживающий совершенно реальные и особенные психологические черты.
– Уж не хотите ли вы сказать, что все эти литературные и мифологические персонажи есть отголоски реально существовавшего исторического лица? – поинтересовался я.
– Я не стал бы так категорично утверждать… Но Слава…
– А что он?
– Он в это верил. Нет, я неправильно выразился. Он был в этом уверен… Так же как и в том, что перстень Соломона действительно существовал.
– Перстень силы, перстень власти, перстень господства и магической мудрости… Как много определений и эпитетов для того, что никто никогда не видел и полулегендарный хозяин чего умер почти три тысячи лет назад. Не кажется ли вам всё это плодом мечтаний воспалённого мозга?
Ракицкий равнодушно пожал плечами:
– Это уж как вам будет угодно. Как профессиональный историк, я с необходимостью должен сказать, что идеи Полуянова абсолютно бредовые. Но как человек, наблюдающий сейчас перед собой жертву этих идей, хочу заметить, что они не так уж далеки от реальности и безобидны, как может показаться на первый взгляд, – рассудительно заметил профессор.
Я оценил юмор Ракицкого и невесело усмехнулся:
– Иногда следование беспредметным идеям может иметь вполне осязаемые последствия. История перстня Соломона, скорее всего, имеет такое же отвлечённое продолжение, как и дело поиска Святого Грааля. Сон желаемого проецируется на мир действительности, воспроизводя бесконечность отвлечённых мистических объяснений.
– Кстати, о Святом Граале, – отметил Ракицкий. – По одной из версий, Грааль есть совсем не чаша, а камень, который имел сверхъестественную природу. Достаточно распространена среди страждущих мистического объяснения одна мифологическая история. Согласно ей это Граалем был драгоценный изумруд, который выбил мечом архангел Михаил из короны Люцифера во время его низвержения. Не видите связи?

