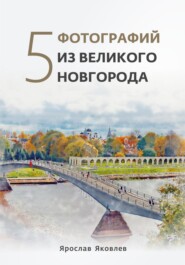 Полная версия
Полная версияПять фотографий из Великого Новгорода
– Есть, – радостно закивал головой бородач. – В советское время живопись собора долго реставрировали. Тогда и открылись первоначальные росписи. Ну, если так фресками интересуетесь – тогда вам к Феофану Греку надо. Это тут, недалеко, в церкви Спаса на Ильине. Идите скорее, пока они не закрылись!
Церковь Спаса Преображения
И снова – беленькая «игрушечка» новгородского средневекового храма. Путеводитель Каргера подсказал, что «церковь Спаса является одним из наиболее выдающихся памятников новгородского зодчества XIV века. По своему архитектурному облику она, вместе с выстроенной несколько раньше церковью Фёдора Стратилата знаменовала завершение длительного процесса формирования нового направления в новгородском зодчестве». Он не стал долго разглядывать храм снаружи, отметив лишь, что он сильно устремлён вверх. Марк сделал несколько спешных кадров. Боялся, что сейчас церковь закроют, и он не успеет взглянуть на росписи.
В храме его поприветствовала женщина средних лет, продававшая музейные билеты.
– Здесь и правда работал Феофан Грек? – спросил у неё Марк. – Тот самый?
– Тот самый, тот самый, – ласково улыбнулась женщина.
Будучи жителем столицы, Марк прекрасно знал Феофана Грека как автора росписей кремлёвских соборов. Ну, вернее, только это он и знал – из уроков москвоведения в школе…
– Вы мне скажите, что тут самое главное, что непременно нужно увидеть? – затараторил он. – А то вы, наверное, скоро закроетесь…
– Да уж не выгоню я вас, – сказала добрая смотрительница. – Тут все росписи замечательные. Пусть сохранилось их и не так много, они ярко демонстрируют не только манеру Феофана, но и его духовные воззрения, саму суть его веры, его духовной практики. Ну а внимательнее всего присмотритесь к изображению Христа Пантократора в куполе.
– Я прошу прощения, а что за особенная вера у Феофана была? – поразился Марк. – Православие – оно и есть православие. Нет?..
– Всё не так просто, – вновь улыбнулась женщина с билетами. – Он был исихастом. Если коротко, главное, что делал исихаст – практиковал умно-сердечную молитву. Цель исихаста, повторяющего «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», – находиться в постоянном контакте с Богом. Каждый последователь этого учения верил, что таким образом сможет соединиться с Господом, познать его энергию, своим духом дойти до Бога… Понимаете?..
– Смутно, если честно, – признался Марк. – Это обдумать надо.
Первый кадр – Христос Пантократор, изображённый в куполе.
– Сейчас палитра живописи не отличается богатством оттенков, – рассказывала женщина. – Одни искусствоведы считают, что это изначальный колорит живописи Феофана. Охристый оттенок символизирует землю, а контрастный белый, который молниями вспыхивает на изображении, – это божественные энергии. А другие предполагают, что цвета менялись и перерождались – огонь пожаров, дым, да бог знает, что еще повлияло, но колорит фресок, по их мнению, существенно обеднел. Но что важно: Феофан изображал Господа большими, широкими, экспрессивными мазками. Почти не насыщал росписи деталями. Художник не стремился к реалистичному изображению, для него главное – передать глубинную, внутреннюю суть.
Долго смотреть на Христа Пантократора, ощутил Марк, почему-то тяжело. Что-то вдруг начинает давить. Даже дышать становится сложно. Ещё одно свидетельство того, что настоящее искусство воздействует на человека и в физическом смысле. А женщина ещё и добавила вдруг:
– Знаете, у меня есть подруга-психотерапевт… И я не знаю, насколько научно это мнение, но она говорит, что Иисус из Спаса Преображения так на тебя смотрит, как ты сам на себя смотришь. При этом, если человек анализирует свои мысли, поступки, если работает над собой и становится лучше – иными словами, преображается, – то и Христос начинает на него смотреть совсем по-другому…
Марк ещё раз взглянул на Всевышнего, сделав очередной щелчок «Киевом», и решил пройтись по храму. Ему стало совсем не по себе.
В витринах он увидел фрагменты росписи храма 1378 года. Музейное пояснение гласило, что их обнаружили в 1970-х годах под поздним полом, а те росписи, что мы видим сейчас – немногое, что осталось после многочисленных пожаров и ремонтов. Марк снова расстроился – вполне возможно, что то, что он ищет, вообще уничтожил огонь в незапамятные времена.
Он поднялся на хоры по лестнице. Его сопровождала женщина с билетами. На стенах, как и ожидал, не увидел того, что искал.
Марк сфотографировал простое, но самоценное убранство храма сверху. Почему-то засвербило в носу – он едва не прослезился.
«Господи, я уже плачу в церквях, – пронеслось в голове ироничное, – это ж как меня местные обработали!».
– Здесь на хорах, – услышал он вновь голос женщины, – в небольшой камере для индивидуальной молитвы есть изображение Ветхозаветной Троицы. Иначе ещё называется «Гостеприимство Авраама». Авраам и Сарра созерцают трех ангелов, сидящих вокруг жертвенной трапезы. Посмотрите – какой эмоциональный накал. А видите в глазах ангелов ярко-белые мазки? Это образ из Апокалипсиса. Они несут свет. Божественный свет – это очень важный образ для исихазма.
– Он не делал ни одного случайного мазка, – констатировал задумчиво Марк. – Всё посвящал той философии, которая его захватила.
– Вот вы меня и поняли, – заключила женщина.
Окидывая церковь Спаса Преображения прощальным взором, Марк дал себе обещание обязательно вернуться. Как на него посмотрит Христос Пантократор через год, два, десять лет? Он усмехнулся: теперь, оказывается, и его мысли о будущем вплетаются в новгородские образы.
Антониев монастырь
Гугл-карта, конечно, подготовила Марка к тому, что Антониев монастырь притаился на окраине старого города. Расстояние не очень большое, но он решил всё же ехать туда на такси – вечер становился всё гуще.
… Возле большого желтоватого здания позапрошлого века – здесь, прочитал он, была семинария, – стильный, совсем молодой парень выгуливал жизнерадостную корги.
– А разве здесь можно выгуливать собак? – спросил Марк.
– Я не знаю, – пожал плечами хозяин корги. – Не видел таких запретов. Тут все с собаками гуляют. Так что, если у вас тоже собака и вы неподалёку живёте, почему нет?..
– Нет, собаки у меня нет… – проронил Марк. – А вы, значит, около этого монастыря живёте?.. Живописно!
– Ну да, вон в тех домах. С родителями, – он показал рукой в сторону домов вблизи автобусной остановки. – Но, самое главное, я тут учусь.
– Правда?
– Ага, у нас тут Гуманитарный институт. Я на кафедре истории России, – ответил парень с собакой.
– Здорово, а какой у тебя круг научных интересов?
Парень замялся:
– Пока рано об этом говорить, хоть я уже и на третьем курсе. Вот недавно готовил к семинару сообщение про Антония Римлянина. Очень интересно было почитать о нём в разных источниках.
– Это основатель монастыря? – спросил Марк. – Он действительно приехал из Рима?
– Ну как, приехал… – протянул студент. – Приплыл.
– В смысле – приплыл?
– В прямом. На камне.
И, увидев удивлённое лицо Марка, продолжил:
– Ну, так говорит житие. Антоний был православным, жил в Италии, после смерти родителей ушёл в монастырь. Но в 1106 году был вынужден его покинуть, так как уже произошло разделение церквей, и католики начали всячески давить на православных. Он молился, стоя на скале около берега, как вдруг её оторвало, и прямо на этом камне он доплыл до Новгорода. Его выбросило на берегу Волхова. Сначала он не понимал местный язык, а потом Господь чудесным образом наделил его этим даром. А построил он монастырь на деньги, что приплыли вместе с ним из Италии – там ещё до ухода в монастырь он выпустил в море бочку с сокровищами. Вернее, остатками сокровищ. Потому что основную часть богатств он раздал бедным в Италии…
– Подожди. Камень-то этот кто-нибудь видел?
– Он лежит на паперти собора Рождества Богородицы и сейчас, – ответил студент. – Обнаружили в середине XVI века.
– И где же он плавал почти 400 лет? – усмехнулся Марк.
– Этого никто не знает, – покачал головой студент. – Но камень-то действительно лежит. Ты бы и сам его мог увидеть, но какое-то время неудачное для посещения выбрал… Хотя погоди! У меня есть фотка же. Презентацию делал к своему сообщению для семинара, сфотографировал.
И он показал Марку фото. Довольно гладкий серый камень, и на этом всё.
– Но всё же всерьёз верить в то, что Антоний приплыл из Рима в Новгород на камне – довольно странно, – рассудил Марк. – Какие-то более правдоподобные версии есть? Он, вообще, реальный персонаж?
– Да, такой человек действительно существовал. Есть версия, что он не был римлянином. Ну, по крайней мере, не плыл оттуда на камне, – улыбнулся парень. – В любом случае, его личность во многом остаётся для исследователей загадкой.
Марк посмотрел на чернокупольный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он ему что-то напомнил, но к ночи Марк соображал совсем плохо, поэтому так и не понял, что. Сделал очередной кадр.
– Это третий по древности сохранившийся храм города, – сказал студент. – Было много перестроек, конечно, но сохранился он, в сравнении со многими другими, хорошо. Внутри, правда, довольно мало можно увидеть древних фресок, но у меня есть фото некоторых, что датируются XII веком.
Он пролистнул несколько фото, Марк взглянул на них очень рассеянно. И вдруг услышал:
– И вот что интересно: на этих стенах есть светские сюжеты XII века. Такие – правда, чуть более ранние, можно увидеть в киевской Софии.
Марк обратился в слух и зрение. Они сели на траву у собора. Верная пастушья собака прилегла рядом, то и дело, впрочем, вскакивая, будто пересчитывая «пасомых».
– Путь на хоры лежит через лестничную башню, там и расположены некоторые древние рисунки, – продолжал парень, показывая снимки. – Это лев. А это – китоврас, ну или кто-то, на него похожий. Кентавр?.. Некоторые думают, что какие-то рисунки и сам Антоний мог нанести…
Вот Антоний-то, даром что «римлянин», мог бы и облегчить Марку задачу – нацарапать где-нибудь у себя в монастыре: «Я, мол, человек новгородский». Он ведь новгородским и был: если вдруг представить, что он на самом деле уплыл из ставшей чужой, католической, родины в далёкую Русь, которая превратилась в родину его духа.
В конечном итоге, думал Марк, гуляя остаток вечера по монастырским закоулкам, мифы – это не плохо. Может быть, в них нет документальной правды, но есть психологическая. Правда души, если говорить пафосно.
Примерно такими словами он сопроводил несколько фото Антониева монастыря, которые отправил заказчику.
– Что думаешь после универа делать? – спросил Марк у студента-историка на прощание. – Многие из Новгорода, наверное, уезжают. Питер и Москва рядом…
– Ну да, – согласился парень. – А кто ещё не уехал, те мечтают. Шутка. Не все, конечно. Кто-то да остаётся… Ну, знаешь, уехать – это же не преступление. Тем более в наше время. Я, может, тоже уеду. Посмотрим после универа… Но, мне кажется, если и уеду, то обязательно вернусь.
– Почему?
Парень, помолчав, отшутился:
– Всегда приятнее гулять с собакой там, где пахнет XII веком.
***
«Марк, ступайте в отель, – прочёл он сообщение от заказчика. – Вам необходимо выспаться. Завтра будет сложный день».
«Решающий», – горько улыбнувшись, отправил Марк ответное сообщение.
«Отнюдь, – возразил заказчик. – Никогда не знаешь, какой из твоих дней будет решающим».
Разгадывать смысл его витиеватых сообщений у Марка не было сил. Но и уснуть он не мог.
– Просто подожду утра, – сказал он себе и завёл будильник.
Тут-то его и настиг тревожный сон.
Часть третья
Южные окрестности Великого Новгорода
В восемь утра его разбудил сердитый звонок телефона.
– Вы где?! – услышал Марк грубоватый мужской голос. – На без двадцати восемь же договаривались!
– Мы? С вами? Договаривались? – удивился сонный Марк.
– Что вы мне голову морочите! – кипятился хозяин недружелюбного голоса. – Это Геннадий!
– Очень приятно, но я не помню, чтобы мы о чём-либо с вами договаривались…
– Ну, не вы, а девушка-аспирантка из Москвы… – объяснил Геннадий. – Говорит, в этой гостинице живёт мой товарищ, нужно его по окрестностям повозить…
Оставив собеседника на громкой связи, Марк нажал на значок What`s app: оказывается, Зоя накануне писала ему, что завтра в 7:40 на парковке у хостела его будет ждать водитель Геннадий, «который не раз помогал ей и её друзьям в перемещениях по новгородским пригородам».
Вот чёрт!
– Простите меня, Геннадий, – сказал ему Марк, пристёгиваясь в машине. – Я тут два дня, и дни эти такие насыщенные… Голова кипит…
– Бог простит… – буркнул Геннадий.
В отличие от Марка, он был чисто выбрит и почти парадно одет – в классические синие джинсы и выглаженную светлую рубашку-поло.
Марк уставился в окно.
– Это же Белая башня?! – воскликнул он в какой-то момент. – Остановимся тут?
– Тут останавливаться Зоя не велела, – отрезал Геннадий. – Сказала, везти вас сразу к церкви Петра и Павла на Синичьей горе.
Водитель был столь решителен в формулировках, что спорить с ним Марк не стал. Он отправил вопрос Зое:
«Разве не нужно мне посмотреть Белую башню?».
«Конечно, ее стоит увидеть, – ответила она. – Это – единственная сохранившаяся башня системы оборонительных сооружений Окольного города. Очень интересный объект. В этом-то и вся соль: задержишься в ней, и как быть с массой мест, что тебе надо за сегодня увидеть?!».
«Скажи хотя бы, с чего эта башня Белая-то? Она же красная», – спросил Марк, чтобы скоротать время.
«Было время, её побелили – в XVII веке. Потом время вернуло тот вид, что мы наблюдаем сейчас».
«Что такое Окольный город?»
«Его ещё называли Острог и Большой земляной город. Это внешняя линия оборонительных сооружений Великого Новгорода из земляных валов и стен. Общая протяженность Окольного города тогда составляла более 10 километров».
Марк кликнул на первую же ссылку:
«Называлась Алексеевской в честь располагавшейся рядом деревянной церкви Алексия Человека Божьего. Башня круглая в плане, внутренний диаметр – более 8 метров, наружный – 17 метров. Нижние части стен сложены из булыжника и облицованы кирпичом. Толщина стен достигает 4,5 метра в нижнем ярусе. Внутри имеется три яруса, которые сообщаются лестницами, проложенными в самой толще стены. Окна-бойницы, предназначенные для ведения артиллеристского огня, представляют собой крупные «печуры», сужающиеся к наружной стороне стены. У башни мощный фундамент, который состоит из известняковых плит, выложенных валунами. Это вызвано тем, что башня строилась на насыпном грунте».
– Надо приехать к Белой башне в другой раз, – пробормотал Марк.
И тут услышал голос как Геннадий сказал:
– Приехали!
Церковь Петра и Павла на Синичьей горе
– Да, мрачновато здесь, – проронил Марк, ступая по надгробным плитам, которыми вымощена дорога к храму. – Эта церковь стоит прямо на кладбище?..
– Да, это Петровское кладбище, – ответил Геннадий. – Что, не по себе от того, что по могильным плитам приходится ходить?..
– Пожалуй.
– Многим не по себе, – кивнул Геннадий. – Я в художественной школе учился в детстве, потом на оформителя в училище, любил сюда приезжать, рисовать церковь. Это храм еще домонгольского периода.
– То есть очень древняя? – спросил Марк, оглядывая красноватый храм с тремя апсидами.
– Ещё какая древняя! 1185 год. Помните, что было в 1185 году?..
– Да чего, наверно, только не было у вас тут, – рассмеялся Марк.
– Это год, когда князь Игорь отправился в поход против половцев, – очень серьёзно сказал Геннадий. – Представляете, какая старина?.. Строили этот храм семь лет. А строили его жители Лукиной улицы.
Марк приблизился к храму.
– Кладка необычная, «полосатая», – сказал он.
– Даже под строительными лесами видно, что внешний вид у храма – сурово- новгородский. А кладка, да, очень своеобразная, пойдёмте покажу: одни кирпичи как бы утопают в растворе, а другие, наоборот, выступают наружу – такую в это время делали только в Полоцке. Технология кладки – не наша, а сама архитектура – новгородская. Получается, что каменщики приехали из Полоцка, а руководил ими новгородский мастер.
Марк обошёл храм и сделал несколько фото.
– Это сейчас тут мы что видим? Церквушку. Пусть очень старую, уникальную, но церквушку, – продолжал Геннадий. – А давным-давно тут был монастырь. Даже со своей легендарной святой – Харитиной Литовской. Почему легендарной?.. Потому что нет достоверной истории ей жизни. Самой правдоподобной считается та версия, что она, как и многие знатные литовцы, оказалась в Новгороде, когда князь Миндовг начал жестоко подчинять разные мелкие княжества. А митрополит Филарет, например, писал, что в XIII веке она сюда прибыла как невеста князя Фёдора, брата Александра Невского, но Фёдор умер прямо на свадьбе, и девушка домой не вернулась, хотя имела на это полное право, а осталась в Новгороде в монастыре…Что известно на сто процентов, так это то, что она была игуменьей женского Петропавловского монастыря. И монахини её очень любили и почитали.
«Плюс один человек новгородский, – подумал Марк. – Многие, кто однажды оказались тут, отсюда уже не уехали».
Ещё Геннадий рассказал ему, что здесь похоронены сёстры Гиппиус – те самые, про которых он уже немного знал. Но могилу им найти не удалось. Зато Марк увидел захоронение иерарха Русской церкви со сложной судьбой – епископа Макария Опоцкого. Его, рассказал Геннадий, отлучили от церкви за догматические противоречия, правда, впоследствии он покаялся, и церковь его простила. При Сталине его выслали на Соловки, оттуда ему удалось вернуться и даже организовать православное братство.
Затейливая русская история вновь блеснула одной из многочисленных граней. Здесь, в тишине, об этом хотелось поразмышлять подольше, но нужно было ехать дальше.
Церковь Благовещения на Мячине
Перед ними предстал белый храм с маленькой главкой. Марк отметил, что похожие в городе уже видел.
– В XII веке эта церковь была очень похожа на Петропавловскую, от которой мы только что приехали, – произнёс Геннадий – но построили её не за семь лет, как ту, а всего за 70 дней. Нынешний вид у храма не тот, конечно, что был при постройке. После разорения города шведами в начале XVII века, церковь долго стояла в запустении – в конце того же столетия её перестроили, сделали новые своды и купол, и она стала ниже.
Под неспешный рассказ Геннадия Марк, менявший плёнку, все думал: а не перепутает ли он потом, уже в Москве, все эти храмы на снимках? По крайней мере те, что схожи между собой? Да какая разница, сказал он себе в итоге, если всё равно не будет разгадки… Нет, надо дальше искать… Все эти дни мысленно он корил себя, что всякий раз на что-то отвлекался, недостаточно внимательно разглядывал стены, фрески и бог знает еще что, и до сих пор не получил результата. И дело было уже совсем не в гонораре.
Он огляделся: Геннадия рядом почему-то уже не было. Марк несмело двинулся к входу – на его удачу, церковь оказалась открытой для посещения. Фрески сохранились плохо: он видел размытые призрачные силуэты. Время пощадило только отдельные лики.
Сложно было догадаться без пояснений, но, очевидно, от первоначальной росписи остались изображения в алтаре, жертвеннике и, как предположил Марк, частично в центральной части храма.
В алтаре сразу обратила на себя внимание композиция, где замерло множество фигур. Гугл подсказал, что эта фреска называется «Служба святых отцов» и намекнул ещё на какую-то «литургизацию сюжетов». Он выключил экран смартфона.
Ревнители православия меланхолично смотрели со стен храма куда-то мимо Марка. Фото, ещё одно фото – конечно, без вспышки! – увы, снова нет того, что он искал. Он прошёлся по храму, перевёл взгляд. Увидел небольшой уцелевший фрагмент росписи, примыкающий к верхнему восточному окну. Часть сидящей фигуры наклонилась вперёд и обратилась влево. Рядом – изображение какого-то предмета мебели вроде табурета.
– Знаете, что это за сцена? – вдруг услышал Марк голос водителя. – Это один из родителей Марии – или Иоаким, или Анна – держит на руках дочь, а та ласково прижимается к отцу или матери. Очень древнее изображение и редкое – в мире их довольно мало. Это мне одна женщина-искусствовед рассказывала, возил её сюда как-то.
– Да, родительская любовь – это всегда очень трогательно, – проговорил Марк.
Вышли. За храмом он увидел крест, на котором было написано «Фотий и Анна».
– Кто это? – спросил Марк.
– В Юрьевом монастыре узнаете, – улыбнулся водитель.
Ещё несколько кадров, краткий ответ «Делаю всё, что могу» на ещё более лаконичный вопрос заказчика: «?», и они с водителем продолжили путь.
Только отъезжая, Марк заметил, что и рядом с этим храмом тоже расположено небольшое кладбище.
Перынский скит
– Не церковь, а статуэточка, – протянул Геннадий, указывая на храм Рождества Богородицы. – Вроде как одна из самых маленьких домонгольских церквей в стране. Ее освятили в начале XIII века. Здесь был и монастырь Рождества Богородицы, но о дате его основания ничего не знают. Потом её шведы сожгли, кажется, в начале тысяча шестисотых годов.
Небольшая церковь казалась выше, чем, вероятно, она была на самом деле. Стройная и лёгкая, она умиляла и будто бы просилась на пасторальную картинку.
– А ведь на каком грозном, можно сказать, месте она стоит, – продолжал Геннадий.
Марк огляделся – вокруг было тихо и безмятежно. Хоть бери и фильм «Остров» снимай. С Ильменя дул ветерок, ничуть не волновавший местные вековые сосны.
– Почему грозном?..
– На Перыни было урочище бога-громовержца, – ответил Геннадий. – Ну, Перуна. Потому и название такое. Тут, вообще, раньше был остров между речками Прость, Ракомка и Волховым… А в шестидесятых годах – мне отец рассказывал, он родом из деревни неподалёку – тут чёрти что наделали. Насыпали дамбу, пойма Прости уменьшилась и чуть ли не в болото превратилась. Ну, и что в итоге?.. Остров стал полуостровом, а сейчас и вовсе – холм. Спасибо сосновой роще, благодаря ей хоть издалека видно скит этот.
– А что из себя представляло это урочище, не знаете? – поинтересовался Марк.
– Ну, как что… – развёл руками Геннадий. – По легенде, поставил тут Владимир – вернее, не он, а его воевода – идол Перуна. Он за главного бога у них, у язычников, был, что ли… Жертвы тут ему приносили и всё такое прочее. А потом, вроде как и десяти лет не прошло, Владимир решил крестить Русь и повелел уничтожить Перуна и сбросить его в Волхов. Где-то здесь был идол, вокруг него – изображения других языческих богов. Это всё было на возвышении, а вокруг – ров.
– Как бы не так, – вдруг услышали они чей-то голос чуть позади. – Есть и другие версии.
Голос принадлежал монаху. Тот поправил очки и представился:
– Я живу на скиту уже давно, – говорил он. – И хотя не историк, не исследователь, много чего знаю. И не из интернета информацию беру.
На этих словах монах почему-то укоризненно посмотрел на Марка. Тот сказал с улыбкой:
– Мне очень интересна ваша версия.
Монах жестом задал новым знакомым направление.
– Нет, конечно, вы всё правильно сказали про Владимира и его воеводу – его, кстати, Добрыней величали – и да, тут правда справляли культ, однако всё не так просто! – парировал Геннадию монах. – Что касается самой площадки, тут есть разные версии. Та, что изложили вы, принадлежит археологу Седову и, разумеется, нельзя её отвергать. Но другие учёные – например, Конецкий – считают, что раскопки раскрыли не святилище, а сопки. И рвы – это часть основания срытых позднее погребальных насыпей. Так что, скорее всего, наши предки тут хоронили усопших.
– То есть на месте, где сейчас крест стоит, – и Марк указал на большой христианский символ, возле которого они находились, – могло и не быть Перуна, так?
Собеседник кивнул:
– Вполне возможно. А знаете, как Новгород крестили?
– Думаю, что не без сложностей, – предположил Марк.
– Да, новгородский люд креститься не хотел, – ответил монах. – Плакали по Перуну. Знаете, я не думаю, что это потому, что так уж им христианство не нравилось, просто налаженный ход жизни менять всегда сложно. Прогуляемся?..
– А что это за красно-белые здания? – спросил Марк, снимая симпатичные домики со шпилями на крышах. – То, что осталось от монастыря?..
– Не совсем от монастыря, – поправил его монах. – От скита… Монастырь упразднили в XVIII веке. А в следующем столетии открыли скит соседнего Юрьева монастыря. Здесь была строгая монашеская жизнь – монахи вкушали только растительную пищу, а женщин сюда допускали вовсе раз в год: на храмовый праздник. Ну, а в богоборческие годы – и без моих пояснений понятно, что последовало. После распада Союза скит перешёл к церкви. Сейчас здесь я живу один. Ну, и трудники иногда.

