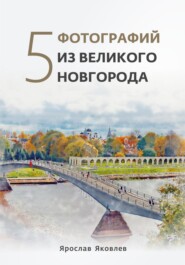 Полная версия
Полная версияПять фотографий из Великого Новгорода
Марк поблагодарил изрядно озадачившую его Зою и через пару минут оказался в музее-мастерской. Он прошёл в зал, и увидел на большом экране фото одноапсидного храма из красного кирпича и ракушечника – Спаса на Ковалёве, главного для Грековых и их коллег новгородского памятника. Марк поймал себя на мысли, что если внимательно вглядеться в очертания храма, то даже фото оставляет впечатление: сейчас храм рухнет по ломаной линии, идущей вдоль его стен – это старое основание, а выше, предположил он, – то, что восстановлено.
«Здесь впервые в истории мировой реставрационной практики были осуществлены грандиозные по масштабу и сложности работы по возрождению разрушенных во время Великой Отечественной войны уникальных фресок церкви Спаса Преображения на Ковалеве. Из сотен тысяч фрагментов фресок было собрано 120 композиций древней росписи, из которых 30 – смонтированы по разработанной Грековыми методике на титановые щиты». Язык витринных музейных пояснений сух, и, однако, впечатление производит: Марку даже показалось, что у него зачесались глаза и онемели суставы пальцев, стоило лишь представить, насколько кропотлив этот труд.
– Сейчас как раз здесь мастера работают, – услышал Марк голос смотрительницы. – Пройдите вот в то небольшое помещение, посмотрите.
Первый же взгляд заставил восхититься.
– Работа у вас ужасно сложная, – обратился он к мастерам, которые присоединяли друг к другу кусочки фресок.
– Почти детективная, – не отрываясь от работы, ответил один из мастеров: совсем молодой человек с правильным, каким-то иконичным лицом.
– Вот и у меня детективная задача, – усмехнулся Марк. – А правда, что вначале никто не верил, что Грековы смогут восстановить такое количество фресок? Я прочитал, что роспись храма Спаса на Ковалёве удалось восстановить почти наполовину…
– Да, так оно и было, – отозвался мастер. – Старшие коллеги рассказывали: поверить в то, что Александр Петрович и Валентина Борисовна смогут это сделать, было сложно. Грековы обнаружили, что фрески разрушались не только от прямых попаданий в храм, но и от взрывной волны, то есть как бы опадали со стен. Это означало, что надежда на успех есть. Но задача была очень трудной. И Грековы предложили методику, которую никто в мире ещё не использовал. Они собирали и сортировали раздробленные фресковые композиции по участкам так, как они были изначально расположены на стенах и сводах храма. А затем уже при помощи подбора восстанавливали росписи. Для монтажа использовали титановые щиты. Много десятилетий Грековы отдали фрескам Спаса на Ковалёве, а мы продолжаем их дело.
Он жестом позволил Марку подойти ближе:
– Вот это неизвестный святой, и это, и это… А у великомучениц Анастасии и Параскевы –сохранность неплохая. А это, например, то ли святой Артемий, то ли святой Никита – нет однозначного мнения… Некоторые фрески как бы спорят друг с другом. Всё потому, что в создании росписи участвовали сразу несколько художников. Стиль их работы имеет явные балканские параллели, это говорит о том, что Новгород не стоял в стороне от основных направлений развития искусства византийского мира.
Мастер показал Марку ещё несколько фресок. «Уникальные, – отметил он. – И все – из одного только храма, вы только подумайте…».
– Вот эта называется «Не рыдай Мене, Мати», – сказал реставратор. – Косвенную параллель можно провести с католическими пьетами – сценами оплакивания Христа. Но и для византийского искусства это – распространенный сюжет.
– Наши мне нравятся больше, – полушутя, отозвался Марк. – Итальянские почему-то не запомнил. Хотя, когда был в Риме, экскурсовод точно что-то такое показывал… Наверное, тогда я не был готов к знакомству с таким искусством.
– Ну что вы, к настоящему искусству готовиться не надо, – возразил его собеседник. – Надо только немного приоткрыть своё сознание, своё сердце.
«Удивительное дело, – подумал Марк. – Ведь я считал православное искусство довольно мрачным. Что такое фрески, иконы, роспись храмов?.. Сразу представляются грустные выцветшие оттенки. А тут – красновато-коричневые, белые, зеленые, голубые, фиолетовые, желтые тона…»
– Просто праздник какой-то, – сказал он вслух.
Мастер долго жал ему руку на прощание, а Марк всё не решался задать главный свой вопрос. Впрочем, реставратор и сам в какой-то момент проронил:
– Самая примечательная надпись на стене храма гласит о дате его росписи: 1380 год… А вообще, у нас не только фрески Спаса на Ковалёве пострадали в войну. Успенская церковь на Волотовом поле – это южные окрестности города – была полностью разрушена. Немцы превратили её в руины. Да, её приблизили к оригиналу при восстановлении, но вы же понимаете: это не то… Она потеряла 350 квадратных метров фресок. Более 20 лет длится работа по их восстановлению. Ах, какое там «Сошествие во ад»…
Мастер говорил ещё долго, а Марк поймал себя на мысли, что не жалеет о том, что разгадка не нашлась и тут. Значит, что-то важное брезжит впереди.
Владычная палата
…Ну, тут уж точно не удержаться от фотографии. Любимый «Киев-19» услужливо щёлкнул построенную Марком картинку. Она была… готической. Готику в центре старинного русского города он увидеть никак не ожидал. «Владычная (Грановитая) палата», – прочёл он.
Наверняка это небольшое здание было частью комплекса сооружений, предположил Марк. По крайней мере, что-то похожее он видел в Ростоке и Любеке.
Пожалуй, столь же въедливо, как Марк, Владычную палату изучал ещё один турист – мужчина средних лет с длинными волосами, в шляпе и с профессиональным цифровиком. По тому, как он обращается с фотоаппаратом, Марк понял: они коллеги.
– Где вы нашли этот «Киев», в антикварном магазине? – спросил длинноволосый. – Такой был у моего двоюродного брата, если не ошибаюсь, в 1985 или 1986 году. Мне было лет десять, и я тоже о нём мечтал. Решил, что вырасту – стану фотографом, и буду покупать себе, какие хочу фотоаппараты. Какие хочу – конечно, не совсем получается. Да и техника теперь совсем другая.
– Этот я купил на «Авито», – ответил Марк. – У меня ещё штук пять плёночных, были аппараты и от антикваров, конечно… Хобби, одним словом. А вы, наверное, как и я, не местный?..
– Почему? – удивился длинноволосый. – Я – новгородец как минимум в шестом поколении.
«А вот и человек новгородский», – подумал про себя Марк.
– То есть вы – новгородец, который любит погулять по кремлю и не просто тут подышать воздухом, а ещё и поснимать выученные, небось, уже наизусть памятники? – с ехидцей спросил Марк. – Я – коренной москвич. Несколько лет назад какое-то время работал в офисе в центре Москвы, и в какой-то момент понял, что та красивая картинка, за которой в мой город едут со всех концов Земли, для меня – уже набившая оскомину обыденность… Когда уволился и стал реже бывать в центре, конечно, ощущения изменились. Но всё же… У вас не так?
– Да просто люблю я Новгород, – пожал плечами длинноволосый. – Собираю большую коллекцию снимков кремля в разную погоду. Вы вот антикварные фотоаппараты собираете, а у меня – такое хобби. Сегодня был яркий, ясный день. Краски просто замечательные. А сейчас сниму Владычную палату летне-вечернюю. Вот, посмотрите.
И он показал Марку с десяток кадров с Владычной палатой в центре.
– Постройка, сами понимаете, для наших краёв не характерная, – объяснил длинноволосый. – Естественно, что здесь руку приложили немецкие мастера. Это был, как сейчас бы сказали, проект архиепископа Евфимия II. Шёл, кажется, 1433 год. Позже ее расписали изнутри. Палата – одна из самых древних гражданских построек в стране и, к сожалению, в последующие годы здание много раз перестраивали и снаружи, и внутри. Многие детали первоначального облика вернули при недавней реставрации. Теперь по стрельчатым окнам и декору из лекального кирпича нетрудно опознать готический стиль. Увы, высокие ступенчатые фронтоны восстанавливать не стали, и сейчас мы можем видеть только их основания. Без них готический облик палаты несколько сник. Во Владычной палате устраивали торжественные приёмы, вели переговоры с послами… Иван Грозный на Владычном дворе устроил свой кровавый пир во время разгрома Новгорода опричниками зимой 1569-1570 годов и, возможно, пировали именно в этом здании. Ну а гитлеровцы в годы войны здесь развернули и вовсе ресторан и казино…Ой, я вас не задерживаю? Вы внутрь-то собираетесь зайти?..
Понимая, что искать среди внутреннего убранства палаты «человека новгородского», скорее всего, бессмысленно, Марк всё же прошёл вслед за патриотом Новгорода. Даже подумалось: да бог с ними, с этими словами, может, отвлечься и просто наслаждаться городом?..
Инстинктивно пригнулся под низкими сводами. Внутри темно, мрачно – глазам понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть. Марк рассмотрел макет палаты, церковные облачения, несколько берестяных грамот – ничего, что могло бы его обнадёжить.
На втором этаже, в помещении вроде вестибюля, Марк застыл перед арочными нишами с фресками. Штукатурку вокруг них, видимо, специально не восстанавливали для показа старинной кладки. Но – пригляделся – нет, «человека новгородского», кажется, нет…
Шаг под нервюры усугубил впечатление: он будто не в России. Своды палаты сведены к опорному столбу, слева от которого Марк увидел большую золочёную чашу в виде купола – вероятно, это что-то из церковной утвари. А ещё кресты, оклады икон – парадное церковное искусство. Его спутник сообщил, что в залах Владычной палаты развёрнута обширная ювелирная экспозиция, которая обычно завораживает посетителей. Но Марка больше интересовали кирпичная кладка и орнаменты.
Он заметил, что грани стен выполнены из фигурного кирпича: ни один не похож на другой, и каждая грань напоминает сложенную в полоску ткань. Ручная, словно портновская работа. Если представить, что на этих стенах нет пластиковых датчиков дыма, то покажется, что и не пробежали-протянулись эти пятьсот лет…
Он вгляделся в очертания орнамента в нишах по углам зала – заключённого в круг фантастического цветка с лепестками разных оттенков. Строгий рисунок, как и необычная кирпичная кладка, увы, не приблизили его к главному кадру, который он должен был сделать.
Они двинулись к владычным кельям, как назвал их длинноволосый.
Росписи показались Марку малопримечательными по сравнению с теми, что он уже успел увидеть.
– Что это за роспись? – спросил Марк.
– Это житие святого Иоанна Новгородского, – ответил его спутник.
– Он тут жил? В какую эпоху?
– Нет, всё было немного сложнее, – отозвался его коллега и сделал очередное фото. – Тут жил построивший Владычную палату Евфимий, и было это через 250 лет после смерти архиепископа Иоанна. Ещё через несколько столетий по ошибке Иоанна «поселили» в этой келье и расписали её сюжетами из жития святого. А оно у него очень интересное. Например, там есть история, как однажды Иоанн молился, и вдруг услышал плеск воды в рукомойнике. То был бес, которого Иоанн запер внутри рукомойника крестным знамением. Он стал умолять архиепископа отпустить его, и тот сделал это с условием, что бес исполнит его мечту – совершить паломничество в Иерусалим к Гробу Господню. И его желание осуществилось. Вот и на фреске – Иоанн скачет на вороном коне, которым обернулся бес, а тут, у окна, видна затейливая архитектура Иерусалима… Кстати, еще лет 150 назад здесь, в нише, висел рукомойник, про который говорили, что он тот самый… Сейчас он в фондах музея.
– А что это за отверстия в полу?
– Это европейское инженерное чудо, – сказал длинноволосый. – Система отопления была этажом ниже, а в эти отверстия проходил тёплый воздух. Можно сказать, что для своего времени Евфимий жил в отличных условиях.
В другом углу кельи – древнее изображение Святой Софии. Может быть, здесь кто-то нацарапал те самые слова?.. Или на каком-либо изображении фантастических сюжетов из жизни Иоанна?.. Но нет. Вздохнув, он покинул палату.
Марк вернулся на Владычный двор и понял, что потерял из виду своего оригинального спутника.
***
… Его, под вечер ставшие почти беспорядочными, скитания по кремлю закончились тем, что он случайно уснул, сидя на траве, на какой-то удалённой поляне. У разбудивших его полицейских, которые твердили, что ему следует покинуть детинец, потому что уже почти полночь, и ворота закрываются, он спросил:
– А где здесь неподалёку институт?..
Полицейские протянули:
– Корпуса университета разбросаны по городу, но непосредственно в кремле ничего нет…
– Может, раньше были?.. Ладно, у Гугла спрошу.
И тот сообщил: в здании Дворянского собрания, где сейчас расположился музей изобразительных искусств, в 60-х-80-х годах работал филиал знаменитого ЛЭТИ – Ленинградского электротехнического института.
Марк отправил ночное фото музея заказчику с припиской: «А больше успехов никаких».
Тот ответил загадочно: «А я так не думаю. Продолжайте поиски».
Марк усмехнулся: что ему ещё остаётся.
Часть вторая
Торговая сторона
Ссутулившийся над Волховом пешеходный мост обещал Марку довольно быстрый переход с Софийской стороны на Торговую.
Горожан и туристов на переправе толкалось немало, и ему иногда казалось, что асфальт вибрирует под ногами. Переполненные эндорфином китайцы фотографировались на фоне Софии, а под ними, на пляже у кремлёвской стены, нежились разморённые монотонной жарой жители города. Он и в Париже, конечно, видел местных, принимающих солнечные ванны прямо в центре, но новгородцы всё равно его немного удивили.
Марк знал, что Горбатый, как его здесь называют, мост построили чуть более тридцати лет назад. Потому интересовал он его мало, и цель была скорей оказаться на Ярославовом дворище. Но на середине моста, решив сделать фото внезапно посмурневшего северо-западного неба, Марк услышал обрывки мгновенно захватившего его разговора.
У перил моста мужчина в толстых очках, почти отчаянно жестикулируя, о чём-то увлечённо рассказывал девушке с микрофоном, позади которой за камерой работал оператор.
– Вот все знают, что у нас археологи копают, – говорил герой телевизионного интервью. – А подводная археология всегда остаётся в тени. 15 лет назад про меня говорили, что я не от мира сего… Но каким-то чудом и единомышленники у меня нашлись, и деньги мы привлекли.
– А что вы ищете? – простодушно поинтересовалась юная журналистка. – Клады?
Её визави даже расстроился от такого вопроса:
– Ну что вы… – протянул он. – Главным объектом наших изысканий стал Великий мост – давний предшественник того, на котором мы сейчас стоим. Хотя и монет мы нашли немало – иногда доходило по двадцать с лишним штук на квадратный метр.
– А ещё что нашли? – изо всех сил изображая профессионализм, спрашивала девушка.
– На мосту стояли лавки, – продолжал учёный. – Мы находили различные товары: глиняные горшки, рессоры, замки и ключи… О чём говорит такая активная торговля?
– О чём? – растерялась девушка, продолжая рисовать на лице невозмутимость.
– Мост играл чрезвычайно важную роль для средневекового Новгорода, – отчеканил подводный арехеолог. – Несколько лет назад выше по течению удалось отыскать остатки моста более раннего времени, датированного X веком. Есть гипотеза, что он мог играть не только торгово-ремесленную роль, но и выполнять оборонительные функции.
Марк бы и дальше слушал, но съёмочная группа, ему показалось, стала на него косо поглядывать. Он спустился с моста.
«Господи, чего тут только нет, – думал Марк. – Раскопки здесь идут даже под водой. Надеюсь, мой «человек новгородский» не на черепке какого-нибудь горшочка нацарапан, который унесло по Волхову…».
Ганзейский фонтан и ганзейский знак
Он проигрывал в голове услышанное только что от подводного археолога, как вдруг рядом раздалась немецкая речь. Около странного – и точно не древнего – небольшого памятника, напоминавшего соцветие брокколи, прохаживался толстоватый немец, общаясь с кем-то по видеосвязи. Немецкого Марк не знал, но невольно прислушался. Немец говорил:
– Liebe, in Weliki Nowgorod erinnert man sich offensichtlich an seine hansische Vergangenheit. An unsere gemeinsame Vergangenheit. Das ist das Hanse-Zeichen. Hier ist geschrieben, es symbolisiert zwei Schiffe, einen deutschen und einen Nowgoroder, deren Segel sich wie die Baumkronen verschlingen. In 2009 fanden die Internationalen Hansetage der Neuzeit in Nowgorod statt. Unsere Nachbarn waren hier dabei, nicht wahr?2
Из телефона раздалось что-то не совсем внятное, но, показалось Марку, весьма восторженное. А немец продолжил, двинувшись к круглому фонтану неподалеку:
– Mir gefiel dieser Brunnen. In Russland sind fast alle Brunnen Springbrunnen. Dieser ist originell, sieht wie ein Becher aus und hat einen kleinen Strahl nur im Zentrum. Und was für schön inkrustierte Wappen, sieh, Emma! Farbiges Mosaik, sehr hell und so kontrastierend! Siehst du, ja?3
Наконец, немец распрощался с Эммой и сам обратил внимание на Марка, заговорив на ломаном русском:
– Люблю быть Великий Новгород, и всегда приходить на это место, – сказал он. – Сестра просить меня показать Ганзейский фонтан. Наша семья родом из Штральзунд. Это быть ганзейский город. Я… как это сказать?.. Фанат Ганза!..
И он заразительно рассмеялся.
– А вы из Россия?.. – спросил немец у Марка.
– Да, – ответил он. – А фонтан действительно интересный. Только вот о Ганзе я, к своему стыду, ничего не знаю. Даже и не припомню, чтобы в школе или в институте об этом рассказывали…
– О!.. Я увлекаться Ганза, рассказать вас немного. Разрешите?..
Марк подозревал, что сегодняшний день будет суетным и насыщенным, а потому не был настроен слушать отвлечённые рассказы, но иностранец оказался слишком любезным. Не уделить ему внимания было бы некрасиво.
– Сначала объединять в Ганзейский союз города север Германия, – говорил он. – Сначала Любек и Гамбург, потом – другие. Это XIII век. Но у нас в Германия многие даже не знать, что Новгород торговать с Готланд сообщество ещё в XI веке. Подумать только!.. Это делать Ярослав Мудрый, заключить договор с Готланд. Ввозить вам медь, свинец, пиво, вино, а вывозить от вас меха, мёд, воск… Самый важный, я считаю, было то, что Ганза сама вести внешний политика. И эта политика был мудрый. Экономический интерес учит договариваться…
В церквях, отметил немец, часто хранили товары.
– Это сейчас странно, – добавил поклонник Ганзы. – А тогда было нормально.
Марк вспомнил, что говорила ему Зоя о причудливом переплетении бытового и «небесного» в сознании средневекового человека, и мысль немца, изложенная на ломаном русском, стала ему понятной.
– Рад, что найти вас, новый друг, – улыбался на прощание иностранец. – В первый очередь вам туда.
И он указал Марку на одну из белоснежных церквей стройного ансамбля Ярославова Дворища.
Церковь Иоанна на Опоках
Неподалёку от храма кусками лежала извёстка. Рабочие сновали туда-сюда. Марк не определился: хорошо ли для него, что идёт реставрация, или нет. Ведь при работах вполне могли открыться искомые слова (возможно, он не узнает об этом сейчас, но факт был бы фактом).
За рабочими зорко наблюдал юркий лысоватый старичок.
– Вход в храм сейчас закрыт, – сказал Марку старичок, заметив, что он уже довольно долго стоит неподалёку. – Реставрация идёт. Я – смотритель этой церкви. Дожил всё-таки до реставрации. Слава богу.
– А что такое «опоки»? – спросил Марк. – Смешное слово…
– Опоки-то? Да глина это, а вернее, кремнезём, – объяснил смотритель. – Обычное дело для XII века, когда храм был построен. Вернее, первая версия храма…
– А это какая версия?
– Это третья, – невозмутимо пожал плечами смотритель. – Церковь дважды разбирали до основания и строили заново. Дело как было… Этот храм заложил князь Всеволод Мстиславич в 1127 году в честь рождения у него незадолго до этого сына, но мальчик умер на следующий год. Грустная история. Потом, по одной из версий, Всеволод передал церковь новгородской общине купцов-вощаников.
– Церковь – купцам? – уточнил Марк, хотя тут же вспомнил рассказ немца о том, что храмы были обязательным звеном торговой цепочки.
– Такое иногда бывало, – ответил собеседник. – За некоторыми храмами стояли купеческие общины. Вот Ивановская была самой влиятельной в Новгороде. Они торговали воском и мёдом. Ну, олигархи своего рода…
– А что Всеволод?
– В 1136 году новгородцы собрались на вече, припомнили князю, что во время сражения с суздальцами при Жданой горе он бежал с поля боя, и что Новгород он хотел обменять на Переславль и выгнали его. Произошла, как её называли в советское время, «новгородская революция XII века».
– А почему революция-то? – с нетерпением спросил Марк.
– С этих событий в Новгороде началась «республика», – отозвался смотритель. – С тех пор и до присоединения к Москве в конце XV века новгородцы сами решали, кто здесь власть. А Всеволод ушёл в Псков. Там пользовался большим уважением, даже стал после смерти местночтимым святым… Но Всеволод-то бог с ним… Самое главное про этот храм: это был средневековый арбитражный суд.
– В смысле арбитражный суд?
– Сюда обращались по разным торговым вопросам, – проговорил старик. – Тут был купеческий суд, его возглавлял тысяцкий. Мог обратиться любой участник сделки, который считал, что его обманули. Или же если возникали какие-то неясности в ведении дел… В церкви Иоанна хранились контрольные эталоны мер: «локоть иванский» для измерения длины сукна, «гривенка рублевая» для взвешивания драгоценных металлов, «скалвы вощаные» – это весы.
– Подождите, – опомнился вдруг Марк. – А что там с третьей версией храма? Нынешней?..
Старик поскрёб лысину:
– А вы во Владычной палате уже были? Значит, уже знаете что-то про Евфимия?.. Именно он в 1453 году разрушил старый храм и построил новый. Архиепископ Евфимий тогда взял курс на «обновление» многих храмов. Церковь полностью перестроили, но так, что она повторяет очертания старой – это главная особенность «евфимьевских» храмов. А ещё одна заключается в том, что они имеют подклет – нижний хозяйственный этаж. Вот там и хранили всякие товары.
Не имея возможности посмотреть церковь изнутри, Марк обошёл её вокруг. Но храм был белый, как прокипячённое бельё. Разве что фреска на апсиде… Опознать, кто на ней изображён, Марк, конечно, не смог, но решил, что это Иоанн Креститель, раз храм посвящён этому святому. Но это было не то, что он искал. Вздохнув, он продолжил путь по Новгородскому Торгу.
Церковь Параскевы-Пятницы
Сделал несколько кадров – церковь святого Георгия на Торгу, церковь Успения. Милые белые церкви. Почему-то захотелось отправить эти кадры Зое. Пусть знает, что его знакомство с Новгородом продолжается.
Один из храмов выделялся особенно ярко. В первую очередь цветом. Оттенок был сложным – что-то между розовым и коричневым. Пожалуй, терракотовый… И цвет этот – мягкий и нежный, и особая, женственная, форма храма заставили Марка надолго остановить на нём взгляд. «Церковь Параскевы-Пятницы», – прочитал он.
И тут заметил, что вокруг церкви чёткими кругами ходят три молодые девушки.
– Нет, девочки, пойдём заново! – услышал он голос одной их них. – Мы всё неправильно сделали. Чтоб он в итоге оказался нормальный, чтоб отношения были хорошие и дом, ну, как это говорят? – полная чаша… Так вот, надо против хода солнца идти, а мы с вами по часовой стрелке прошли!
Девушки вздохнули и отправились наматывать «правильный» круг вслед за подругой.
– Простите, ради бога, а зачем вы это делаете? – спросил Марк у предводительницы шествия.
– А вы не знаете? – удивилась девушка. – Ах да, вы же мужчина… Ну, есть такое поверье, что, чтобы удачно выйти замуж, надо обойти Параскеву трижды против хода солнца.
– Ах вот оно что! – рассмеялся Марк.
– Нет, не то чтобы мы прямо ужасно хотели выйти замуж… Это было бы странно в XXI веке, – подхватила вторая девушка. – Ну, раз уж приехали сюда, почему бы нет? На всякий пожарный.
И женская компания весело захохотала.
– А откуда приехали? – поинтересовался Марк.
– Мы из Смоленска, – ответила до того молчавшая, самая серьёзная из подруг. – Видимо, этот храм по смоленскому образцу строили. Или наших мастеров, возможно, приглашали. Новгород и Смоленск тогда сотрудничали. Передовые средневековые города были всё же. Правда, у нас всего одна похожая церковь сохранилась.
– В интернете пишут, что этот храм построили «заморские купцы», то есть купцы, которые уезжали «за море» торговать с иностранными государствами, – сказал открывший Гугл Марк. – Пишут, он 15 раз перестраивался!
– Между прочим, это заметно, – обратила его внимание серьёзная гостья из Смоленска. – Смотрите. Часть оставили неоштукатуренной, другую часть, наоборот, оштукатурили и, кажется, покрыли серой обмазкой, видно, тогда было так принято. А барабан и главу побелили.

