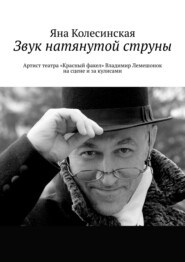скачать книгу бесплатно
Семья Лемешонков в Доме актера, 2004 г. Фото из личного архива.
Под хрустящие грибочки, в узкий просвет между двумя силами притяжения – театром и автотехникой – Евгений Семенович умудрялся втиснуть рюмку-другую. Питием не увлекался, за исключением отдельных случаев, но каких! Они вошли в анналы, коллеги еще долго смаковали их. Например, как во время спектакля Лемешонок Первый не мог вставить саблю в ножны, всё время промахивался. Коллекция редких вин стояла у него в шкафу под замком нетронутая, гостям предлагалось лишь рассматривать диковинные бутылки, мерцающие заморскими этикетками. Но друзья-то знали, что емкости попадают к нему пустыми, ибо добыты по случаю в качестве сувениров, после распития в компании, и ценны как украшение скудного советского интерьера. Разлит по ним обыкновенный самогон.
Точнее, самогон был не совсем обыкновенный. Евгению Семеновичу в наследство от родителей достался самогонный аппарат, тут и появилось хобби, при социализме, мягко говоря, не поощряемое государством. Он особо не прятался, но доверял дегустацию своего изделия только проверенным людям. Подход к производству священного напитка был отнюдь не утилитарный, а воистину творческий. Лемешонок Первый придумывал всевозможные рецептуры, разрабатывал разнообразные сорта, экспериментировал с ингредиентами и дозировкой. Друзья-актеры дали авторскому изобретению название Лемовка и не упускали случая употребить в меру и без меры, смотря по обстоятельствам.
Компания Лемешонка-младшего тоже пристрастилась к фамильному самогону, и сын, сильно погорячившись, вдруг решил, что присвоил от своих родителей вместо достоинств весь негатив и приумножил его, градусы же необходимы затем, дабы компенсировать проблемную генетику. Отцовская трепетная вера в профессию, считает он, ему не передалась.
Евгений Семенович был горд тем, что он артист. Его убежденность в благородстве призвания была непоколебима. Сын в своем знаменитом «Письме к актерам» писал: «Я всю сознательную жизнь провел под впечатлением творческой цельности старшего Лемешонка, его до сих пор молодого, никакими годами и обидами не сломленного стремления к высокой простоте».
А обид хватало. Слишком быстро пролетела молодость. Невпопад подступила старость. Помнится, в короткометражке 1976-го года «Сегодня полеты, завтра полеты» его герой, указанный в титрах как «летчик на пенсии», на вопрос маленькой девочки, тяжело ли расставаться с небом, отвечает: «Тяжелее некуда. Понять это могут только летчики». Оказалось, не только летчики.
Новый главреж «Красного факела» Михаил Резникович впервые увидел Евгения Лемешонка в спектакле «Ретро» и обрадовался: «Этот артист мне нужен!». Пробивает звание народного, назначает на главные роли в «Виноватых» и «Зимнем хлебе», открыто восхищается работой в «Кафедре», любовно похлопывает по плечу. Евгений Семенович называет его «мой режиссер», говорит, что благодаря Резниковичу открылось второе дыхание. Но недолго музыка играла. Как вдохновил – так и растоптал. Поссорились во время репетиций «Дворянского гнезда». Организм корифея труппы дает сбой, и Резникович резко меняет тон: в театре, оказывается, никто ничего никому не должен. Снимает с роли, публично заявляет, что Лемешонок неубедителен. Евгений Семенович сопротивляется, бунтует, требует заседания худсовета, показывает, как профессионально владеет ролью, коллеги прячут глаза.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ПРОТЕСТ
– Мне было любопытно репетировать в «Дворянском гнезде», это был новый для меня опыт, и тут случается неприятность: отца снимают с роли. Для него, как и для меня, было невыносимым что-то доказывать, но он набрался мужества, чтобы выступить перед худсоветом, показывал какие-то куски… Он уже совсем плохо слышал, но не мог с этим смириться, не мог понять, что его время ушло. Может быть, я отчасти предал отца, продолжая репетировать как ни в чем ни бывало. Я был возмущен тем, как с ним поступили, но не до такой степени, до какой бы следовало. А что мне нужно было делать? В знак протеста уйти из театра? У Толстого: делай как должно, а там будь что будет, а я часто давал слабину и презираю себя за это.
Мы с отцом эту ситуацию не обсуждали. Если с матерью говорили черт знает о чем, то с отцом нет. По типу мышления я был ближе к матери; с отцом мы были в чем-то похожи, но, по сути, оставались очень разными людьми. Мы с ним находились в разных тональностях – интеллектуальных и профессиональных. И конечно, мы были людьми разных поколений: я всегда любил всё новое, авангардное, неожиданный подход, режиссерские находки, он же ко всему новому относился очень осторожно.
Апрель 2016 г.
Казалось бы, он еще полон сил, он еще о-го-го! Может владеть ситуацией, помогать друзьям, давать советы. Навещает больную коллегу Валентину Мороз и громогласно командует: «Подруга, собирайся, увезу тебя в Кудряши, в баню!». Принимает у себя дома компанию и весь вечер смешит ее театральными анекдотами. Но невозможно совладать с прогрессирующей глухотой, и после «Ромео и Джульетты» он выговаривает сыну за то, что тот нарочно бубнит реплику себе под нос, чтобы вывести его из себя.
Директор театра Галина Булгакова объявляет, что отныне давать Евгению Семеновичу новые роли нецелесообразно. Пусть доигрывает свой репертуар – и на заслуженный отдых. Надвигаются годы прозябания, выхода из которого уже нет. Или есть, но обманчивый, после чего становится еще тяжелее.
Народный артист РФ Анатолий Узденский ставит в театре «Старый дом» комедию «Лес», приглашает 75-летнего Лемешонка на роль второго плана. Евгений Семенович всё еще выглядит внушительно благодаря царственной осанке, но походка стала нетверда, и он всё чаще переспрашивает, что сказал собеседник. Тем временем недавний краснофакелец Слава Росс, ныне студент режиссерского факультета ВГИКа, получает курсовое задание сделать фотоочерк на свободную тему. Он пишет сценарий про старого актера и предлагает эту роль Евгению Лемешонку. Вернее, просит его сыграть самого себя.
Слава Росс использовал простую мыльницу, качество съемки оставляет желать лучшего, но не за это ставили ему оценку. Снимки проникнуты печальным очарованием ухода, прощания со всем близким и дорогим, когда даже природа дышит в унисон с тобой, но ничего нельзя изменить.
Кадр из фотоочерка Славы Росса, 1999 г.
Старый актер выходит из подъезда, двери которого так же потрепаны, как и его портфель. Подходит к родному театру, с которым он всегда был одной крови, а теперь они вместе состарились: осыпающиеся колонны, облупленный фасад, и даже снег обветшал, как износившаяся декорация. Поздним вечером гаснут огни, он сидит в гримерке перед зеркалом, из серой мути выплывает лицо с припухшими веками. Примеряет костюм своего персонажа, чье имя уже не помнит, стоит на пустой сцене, простирает руки к безмолвному залу. Сюда он больше не придет.
Последней ролью стал король Лир, изгнанный из собственных владений. Это был спектакль одного актера, и зрителей было ровно столько же. Евгений Семенович, насупленный, косматый, с развевающимися полами халата, по утрам грозной поступью входил в комнату жены. Гремя всей мощью голосовых связок, которые, в отличие от слуха, нисколько не пострадали, произносил страстный, гневный, полный трагизма монолог о катастрофе мирового масштаба. Рефреном через его речи проходило: «Они меня вышвырнули!». Марина Ильинична, к тому времени уже парализованная, только вздыхала.
Когда ее не стало, закончился и спектакль. Евгений Семенович выбирался из дома лишь изредка, да и то затем, чтобы добрести с маленькой кастрюлькой до стройки и покормить беспризорных собак, которые, едва завидев покровителя, радостно бежали к нему, улыбаясь во всю пасть. Но постепенно он стал терять ориентацию в пространстве, не понимал, где находится, почти не разговаривал, не считая скупых реплик, обращенных к коту: «Пойдем, Миша, кефир пить». Сыну, приходившему к нему каждый день, он повторял: «Пора мне к мамочке. Зачем Господь держит меня здесь?». Господь держал его до 90 лет. Не может же Господь каждому актеру даровать смерть на сцене.
4. Золотое перо
Марина Ильинична Рубина (1924—2008) росла в зажиточной еврейской семье. С родным Киевом семья простилась, когда отца перевели на более высокую должность в Москву. Но и там не задержались, спасаясь от сталинских репрессий. В этом им крупно повезло, если считать везением бегство от расстрела в нищету. Генералу НКВД Илье Зусьевичу Рубину был выписан ордер на арест, и его друг нашел в себе мужество тихо шепнуть: «Уезжай». Мать Вера Абрамовна была морально к этому готова. Собрались в одночасье, сели в первый попавшийся поезд и рванули в неизвестность.
Ближайшим городом к поселку Тавда, где они обитали в войну, был Свердловск. Там Марина Рубина выбрала Alma Mater – Уральский государственный университет имени Горького. С ее аттестатом можно было поступить на любой факультет, она могла стать и биологом, и математиком. Но сердцу не прикажешь: журфак, только журфак.
В студенческие годы затеплилась любовь к драматическому искусству. Местом силы стал Свердловский академический театр драмы. Она не могла понять, как такое возможно – в лютой стылости, в беспробудной хмари люди не просто остаются людьми, а еще и ставят спектакли. «Парень из нашего города», «Жди меня» и особенно постановка Ефима Брилля «Дядя Ваня» формировали ее художественный вкус.
Театр давал впечатления, отвлекавшие от голода и холода, помогал вытерпеть промозглый быт. Спасал от невыносимого отчаяния, от дикой душевной боли, когда с фронта пришла похоронка: ее муж-летчик погиб в воздушном бою. По ночам она плакала и не высыпалась, но на учебе это не отражалось.
Она решила, что будет работать честно и по совести, во благо искусства, которое учит принимать действительность такой, какая она есть. И никто не собьет ее с этой траектории. И никогда она не посрамит память убитого мужа. Для этого нужно было уметь не только писать, как считаешь нужным, а еще и не писать того, что от тебя требовали.
После четвертого курса она проходила практику в газете «Известия», но предложение войти в штат отклонила: видите ли, ей не дают публиковать очерки об интересных людях. Окончив в 1947 году журфак с красным дипломом, два с половиной года работала по распределению во владимирской газете «Призыв», но и там не захотела остаться: скучно быть звездой в пустоте. Следующим пунктом на карте стоял Новосибирск.
В областной газете «Советская Сибирь» снова оказалось, что профессиональная оценка искусства с точки зрения именно искусства невозможна в издании партийного диктата. Постепенно приходило понимание, что красная цензура непререкаема, но надо искать способы ее обходить.
Вова Лемешонок с мамой и папой, 1962 г. Фото из семейного архива.
Сегодня преподаватели говорят студентам, что историю новосибирского театра нужно изучать по статьям Марины Рубиной. Ее «тексты можно назвать образцовыми с точки зрения следования канонам жанра, и одновременно – увлекательным чтением для всех, интересующихся театральным искусством», – писала коллега Валерия Лендова в аннотации сборника рецензий «Театральный роман», изданного в 2010 году посмертно под редакцией Ирины Яськевич – кандидата искусствоведения, проректора Новосибирского театрального института, супруги Владимира Лемешонка.
Два других сборника вышли в Западно-Сибирском книжном издательстве при жизни – творческие портреты «Актеры и роли» в 1968 году и очерки о деятелях культуры и науки «Покой нам только снится» в 1973. В то время ни один журналист не имел подобной библиографии.
Ей нужно было состояться и в личной жизни тоже. Начав сотрудничество с театрами, она познакомилась с актером ТЮЗа, вышла за него замуж, уехала вслед за ним в Иркутск. В «Восточно-Сибирской правде» специально для нового сотрудника создали должность заместителя ответсека по вопросам культуры. Она круто взялась за дело, слишком круто. Лемешонок Первый вовремя сориентировался: «Давай-ка смоемся отсюда, пока тебя не исключили из партии». Карьера в Иркутске у него не складывалось. И в Ташкенте тоже. Добрались до Ленинабада.
Все эти годы жили тяжело, особенно когда родился ребенок. Грудного молока не было ни капли, искусственную смесь добывали чудом. Любовная лодка неистово билась о быт, ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Евгений Семенович вернулся в родной театр юного зрителя, Марина Ильинична – в родную газету «Советская Сибирь».
Родители Лемешонка-старшего помогали поднимать малыша, но в их коммунальной комнатушке невозможно было развернуться еще одной семье. В личном архиве сохранилась фотография: они сняты на даче, где их на лето приютили друзья. Переезжали с одной съемной квартиры на другую, обставляли временное жилье мебелью из списанных спектаклей. Так в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» колыбелью театрального младенца стала кроватка Бобика из спектакля «Три сестры». Через много лет эта пьеса оставит значительный след в биографии артиста Владимира Лемешонка.
Родители Владимира Лемешонка на даче Анисима Рогачевского, 1958 г.
Порой приходилось ночевать в редакции. Марина Ильинична, сидя под настольной лампой, исписывала кипы бумаги. Утром приходила машинистка, привычно разбирала дебри ее мелкого почерка с зачеркиваниями, вставками, пометками на полях. К полудню выдавала в набор готовую рецензию. В этом жанре, как и в очерках о деятелях культуры и науки, Марине Рубиной равных не было. Все это поняли и замолкли. В очередь на квартиру она «стояла» не так уж долго.
В 1962 году Марина Рубина получила от газеты «Советская Сибирь», где числилась заведующей отделом литературы, искусства и науки, полногабаритные хоромы в сталинском доме на улице Свердлова. Вовка остался с бабушкой и дедушкой, потому что родители приходили домой поздно вечером, а брать его на работу было еще рано. Но вскоре удалось обменять две квартиры на одну, огромную, четырехкомнатную, в том же доме, на пятом этаже. Семья воссоединилась, жилищный вопрос был снят. Долго привыкали к тому, что можно приглашать толпу друзей, и не на кухне тесниться, а располагаться за большим круглым столом в просторной гостиной.
У них стала собираться творческая интеллигенция, тяготеющая к культурным дискуссиям, те, кому, как писала Валерия Лендова, «предстояло сделать в театральном искусстве Новосибирска новый шаг – молодой режиссер Владимир Кузьмин и близкая ему группа актеров». Не пирогами привлекала Марина Ильинична гостей, она не любила готовить, ее фирменным блюдом было яйцо под майонезом. Гораздо важнее был дух свободы. Ирония Судьбы заключалась в том, что дом находился напротив обкома партии (ныне художественный музей), окна выходили аккурат на герб СССР – лепнину над парадным подъездом здания, сохранившуюся до сих пор. Но звукоизоляция была идеальная, а среди друзей стукачей не наблюдалось.
Творческие личности группировались вокруг нее, тянулись к ней, нуждались в ней, доверяли замыслы и воплощения. Хотя заранее знали, что вежливых комплиментов не дождутся. Прошла половина века, а легендарный киновед Роза Литвиненко до сих пор вспоминает, кто помог ее становлению в профессии на заре знаменитой телепередачи «Кино и зритель».
МЫСЛИ ВСЛУХ ОТ РОЗЫ ЛИТВИНЕНКО
– Я только начинала свою работу на ГТРК и жутко комплексовала, нервничала, сомневалась. Мнение маститой коллеги было очень важно. Марина Ильинична пригласила меня на чай, и мы долго сидели у нее на кухне. Она говорила с таким почтением, с интересом и пониманием дела, что я поверить в это не могла, – и не могла не поверить. Лил дождь, кипел чайник, за окном темнело, в своих рассуждениях об искусстве мы и не заметили, как детское время вышло. Часа в три ночи я спохватилась, ведь у меня маленькая Настя с бабушкой! Поэтому я не могла остаться до утра. В общем, я вскочила, напялила резиновые сапоги и умчалась. И была под таким впечатлением от встречи, что не заметила, как пронеслась в чужой обуви по лужам пять кварталов до дома. А утром раздался звонок: «Розочка, как вам удалось влезть в мои сапоги? Я надела ваши и утонула в них – они на три размера больше!»
Август 2016 г.
Многие знаменитости знали твердое рукопожатие Марины Рубиной. Андрей Вознесенский, в 1959 году приехав в Академгородок, лично вручил ей рукопись своей первой поэмы «Мастера». Она, в очередной раз рискуя карьерой, воевала и с редактором, и с обкомом за опубликование опуса в газете, будто знала, что с него начнется слава молодого поэта.
Марина Рубина. Фото из семейного архива.
Ей было важно оценить и поддержать талант, событие, явление. С неимоверными усилиями пробила создание в «Советской Сибири» отдела науки, ведь у нас появился Академгородок! Отстаивала на редколлегии публикацию скромной заметки о выходе в Москве альбома опального н-ского художника Николая Грицюка. Разборки проходили и на более высоком уровне. Глава обкома Федор Горячев вызвал ее на ковер и устроил разнос: «На вас пожаловался мэтр живописи Василий Титков! Вы написали рецензию на его выставку с критическими замечаниями! Вы противопоставили его молодым художникам!». Автор вела себя вежливо, но независимо, на попятную не шла.
Эта независимость, продиктованная убеждением жить по правде, не раз откликнулась ей большими неприятностями. Когда не удалось отстоять свою точку зрения, написала в знак протеста заявление об увольнении. Уговаривали забрать – стояла на своем. Тогда разослали указания никуда не принимать, пол-года сидела без работы. Наконец, удалось устроиться завлитом в оперный театр (НГАТОиБ), который благодаря ей вошел в анналы: в 1979 году (в соавторстве с Инной Вершининой) вышла книга «Новосибирский академический». Это было первое исследование крупнейшего музыкального театра Сибири.
Но не всем сестрам досталось там по серьгам, добрые люди передали угрозу уважаемой балерины: «Если я увижу ее, то дам по морде». Но не увидела, ибо их пути успели разойтись. В редакции так и не нашли достойную замену Марине Рубиной и позвали назад. Там она и проработала вплоть до ухода на пенсию.
К середине жизни Марина Ильинична нажила себе столько же врагов, сколько и друзей. В театрах на нее обижались за то, что мало хвалила, боялись, потому что неудачи подвергались честному и пристальному разбору, уважали, цитируя точное и емкое слово. Знали, что пустых комплиментов от нее не дождаться. Доморощенные остряки, едва ее сын заявил о себе на сцене, пустили в народ перефразированную эпиграмму Гафта: «Россия! Чуешь этот страшный зуд? Три Лемешонка по тебе ползут».
Ей приписывали верное служение системе, хотя прекрасно знали, что ни один спектакль она не похвалила за идеологический пафос. Она предпочитала вообще ничего не писать о проходных поделках, если по тем или иным причинам не было возможности сделать разнос за халтуру. Но она не была и несгибаемым борцом за правое дело в советском смысле этого слова, не считалась диссидентом, идущим наперекор власти. В ее ранней юности случился роман с европейским дипломатом, который настойчиво звал замуж, но она и мысли не могла допустить, чтобы покинуть родную страну. Марина Рубина была просто порядочным человеком. Производила впечатление сильной, решительной, волевой личности, и только близкие знали, насколько она ранима и беззащитна.
Сомневалась, мучилась, взвешивала каждый аргумент, прежде чем высказаться о том, что старейший театр Сибири перестает быть «Сибирским МХАТом», теряет свой уровень. Что главреж «Красного факела» Константин Чернядев – творец, но не лидер. Чернядев возмутился, явился в обком, бросил заявление об уходе. Уговорили остаться, и в общей сложности он возглавлял «Красный факел» целое десятилетие, вплоть до 1971 года. В конце своей деятельности в Новосибирске Константин Саввич сделал великое дело – стал главным Педагогом ее сына, развившем потребность в самостоятельном мышлении. Что было большой, точнее, недопустимой роскошью для советского человека.
ИЗ АРХИВА. ПРО ИСТИНУ И ЛОЖЬ
«Она учила думать. Не обольщаться, не принимать за истину „ложь по мысли и ложь по исполнению“, как говорили старые критики. Никогда не забывать о смысловых планах спектакля. Не стесняться вопроса – зачем это поставлено? во имя чего? В ее статьях ответ всегда был, потому что была точка схода, куда устремлялась мысль», – писала театровед Валерия Лендова в аннотации к сборнику «Театральный роман».
Решив сплотить круг единомышленников, Марина Рубина и Валерия Лендова основали секцию театральной критики при Новосибирском отделении ВТО (ныне СТД РФ), учредившем театральную премию «Парадиз». Это была единственная периодическая премия в Новосибирске, объедившая все профессиональные театры города. Жюри «Парадиза» работало под их началом. Они же стали выпускать газету «Новосибирская сцена» (впоследствии «Авансцена»). Это была первая и последняя в городе газета, полностью посвященная одной сфере искусства. Раз в год она давала аналитическую картину театрального сезона. Новая плеяда театральных критиков оперилась и вошла в профессию с их помощью.
Марина Ильинична объясняла младшим коллегам, что история театра не пишется одной светлой краской. Судьба художника всегда противоречива и чаще горька, чем безмятежна. Театр нельзя ругать – с ним нужно спорить, и быть при этом всегда доказательным. «Профессия критика не может быть до конца объективной. Но честной – может быть!» – подчеркивала Марина Рубина. Ее внук Евгений Лемешонок подтверждает: «Бабушкин талант был глубок. При всем своем жестком характере она была справедливой. Потому что не понаслышке знала, что на сцене всё дается трудом и потом».
Лучше всего цену и меру этой честности испытали на себе муж и сын. Жена и мать актеров, Марина Ильинична опасалась, как бы ее не уличили в излишней лояльности к театру, в попытке использовать свое положение для привилегий своим мужчинам. Даже вне работы она никаких привилегий не давала. Иногда им казалось, что они стоят перед ней по стойке смирно.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ССОРЫ И УПРЕКИ
– Мама никогда не пела дифирамбов актеру Евгению Лемешонку. На этой почве у них возникали конфликты. В начале моей карьеры она и меня не принимала всерьез. Часто приходилось в этом убеждаться. Председатель областного художественного совета Николай Чернов, человек тоже порядочный и честный, после обсуждения спектакля «Гнездо глухаря» выразился кратко: «Марина Ильинична, если бы мне было что сказать о вашем сыне, я бы сказал». Мама передала мне эти слова. Знала, что я буду беситься и мучиться, но скрывать не стала. Не щадила меня и тогда, когда выходили критические замечания в мой адрес. Валерия Лендова, имевшая большой авторитет театрального критика, достаточно резко высказалась об одной из моих ранних ролей, а претензии я предъявил матери. «Она не лучше критик, чем я артист!» – выкрикнул я, совершенно не владея собой, и мама так на меня посмотрела… Столько жалости и презрения к этому ничтожеству было в ее глазах… Ничего не сказала, только посмотрела на меня, покачала головой – и отвернулась.
Она была атипичной матерью… С раннего детства относилась ко мне сурово, никогда не хвалила, опасаясь, как бы я не возомнил о себе лишнего. Будучи убежденной, что себя нельзя любить, себя нельзя жалеть, она раз за разом внушала мне беспощадность и презрение к себе, требовала самокритики, ни в ком не терпела самолюбования и не могла его допустить в своем сыне. Могла сказать: «Какой же ты у меня некрасивый». Когда у меня появилась первая девушка, она поджала губы: «Ну и зачем ты ей нужен?». Благодаря ей я и мысли не допускал, что могу кого-то заинтересовать. Даже если сам это замечал, то думал, не может этого быть, показалось, мне нужны были конкретные доказательства, прямым текстом, в лоб.
Потом ей стало возвращаться сторицей. Я, выросший в атмосфере родительских скандалов, обрушивал на нее упреки и требования. Кричал, обличал, доводил до слез. Сейчас понимаю, что нельзя было этого делать. Выросшая в НКВД-шной семье, она была продуктом и жертвой этой системы, изуродовавшей и ее, и мою психику.
Февраль 2016 г.
Вова Лемешонок с мамой. 1964 год. Фото из семейного архива.
В этой семье всё было наотмашь, на нервах, на конфликте. Хлопали дверьми, орали, молчали, расходились, сходились, страдали бессонницей, постоянно доказывали свою правоту и свою правду. Ревностно следили за творчеством друг друга, в неудачах утешительных призов не раздавали, уважали чужое мнение, старались принять иную точку зрения, встать на позицию другого. Своевременный совет был ценнее скупой похвалы.
– И Евгений, и Володя – из той породы артистов, которым все дается большим трудом, – рассказывала Марина Ильинична, уже будучи на пенсии, стройная, подтянутая, с утонченными чертами лица и пристальным взглядом. – Они проделывали над собой гигантскую работу. Постепенно набирали – и вдруг вспышка таланта! Володе понадобилось очень много времени, чтобы количество сыгранных ролей перешло в качество. И еще он говорит: я играю на сцене потому, что больше ничего не умею. Но я-то знаю – умеет. Из него мог бы получиться неплохой журналист, писатель, художник. А какие он стихи пишет! Его однокурсник и друг Толя Узденский в своей книжке «Как записывают в артисты» вспоминал: поначалу думали, что в театральное училище Лем, как они его прозвали, поступил по блату. А позже убедились, что он умнее, интеллектуальнее, начитаннее многих…
С возрастом она всё отчетливее стала ощущать, что время ее уходит. Она теряет остроту пера, а карьера сына складывается гораздо успешнее. Он состоялся и в актерстве, и в писательстве. Все его эссе, как и статьи о нем, Марина Ильинична методично отслеживала, аккуратно подписывала дату, очерчивала красным стержнем посвященные ему абзацы, страницу к странице складывала в солидную картонную папку с дерматиновым корешком. С каждым годом папка становилась всё объемистей. Папка раздувалась от важности. Сам бы он ничего подобного делать не стал.
Семейный архив можно было пополнять год от года, но работы и заботы Марины Ильиничны прервались в одночасье. Ее застали врасплох. Эту полную энергии и мудрости женщину постигла участь многих, вне зависимости от того, кем они были и чего достигли. Высшие силы выхватывают человека из потока дней и бросают в пропасть, откуда нет возврата.
С утра беспокоило какое-то мрачное предчувствие, и вдруг раздался телефонный звонок. Вздрогнула, резко схватила трубку. Незнакомый голос сообщил, что ее сын попал в аварию, увезли на скорой, срочно требуются деньги. Дома она сидела одна, некому было остановить. Ничего не помня от ужаса, прибежала по темноте, принесла на место назначенной встречи требуемую сумму. В тот же вечер выяснилось, что Володя цел и невредим, а скорая помощь потребовалась ей. Она рухнула дома в коридоре и больше уже не встала.
После инсульта Марина Ильинична сохранила ясность ума, но потеряла возможность не только передвигаться, но и двигаться. Прикованная к постели, она не могла с этим смириться, надеялась, что поправится, встанет на ноги. Сын и внук делали для этого всё возможное, не жалея средств на таблетки и мази. Лем достал по блату дорогущий импортный массажер и проводил сеансы терапии. А пока сдвигов не было, приладил к кровати приспособление, с помощью которого можно было подтягиваться на одной руке и хоть немного менять положение тела. Мужчинам пришлось взять на себя обязанности, на выполнение которых они, как правило, по природе своей не годятся. Но существует другое правило – отдавать долги родителям, причем не в свободное время, а постоянно, день за днем. Даже если ты ничего не брал в долг, появившись на свет без собственного на то согласия и так и не уразумев, кого и почему ты должен благодарить за это.
Несколько раз навестила секция критиков. Одна из коллег молвила, что с Христом в душе было бы легче. «Галочка, неужели вы до сих пор верите в эти сказки», – отозвалась Марина Ильинична. Ей помогало другое – фонды библиотеки СТД, книги по ее формуляру брал сын. Держа перед собой на вытянутой руке книгу, она прилагала особые усилия, чтобы перевернуть страницу. Деменция ей не грозила, тем трагичнее было затянувшееся прощание с утратившей хоть какой-то смысл жизнью. Самое страшное для человека – вовсе не жизнь и вовсе не смерть. Самое страшное – промежуток между жизнью и смертью.
«Тебе жалко меня?» – спрашивала она у сына. Лем пытался шутить. Ведь именно в такие моменты чувство юмора становится альтернативой фальшивому оптимизму. Не умея избавить родного человека от пытки, еще острее сознаешь свое тотальное безверие. Сентенции типа «бог тебя любит» начинают казаться издевательством. Рассуждения о бессмертии души имеют утешительный характер. Теория расплаты физической болью за грехи неубедительна. Земной разум не способен постичь, для чего дано это испытание. Ладно, оно дано тебе – допустим, для усиления человекости. Но отказываешься понимать, для чего это испытание беспомощному старику, который не может себя защитить и что-либо изменить, страдая еще и от того, что стал обузой для близких. Неизбежность старческой немощи – позорный закон бракованного мироустройства. Медленное унизительное умирание – исчерпывающее доказательство ничтожности человека как вида. Облегчение от того, что отмучились оба – глумливая гримаса высших сил. Способ спасения ближнего показал кинорежиссер Михаэль Ханеке в шедевре «Любовь», но для этого мы слишком слабы.
Марина Ильинична ушла в 84 года. Пережив смерть матери, а затем отца, Лем смотрит вдаль: «Ужасно боюсь, что и мне уготовано затянувшееся угасание. От родителей я, скорее всего, унаследую еще и мучительную старость».
5. Инопланетное чудовище
Его характер слагался из абсолютно не соединимых для среднестатистического человека компонентов, происходящих, с одной стороны, из редкого природного материала, с другой, из сурового воспитания. Противоречия, раздирающие его с детства, вылились в утонченные черты лица – и под суженной переносицей нашлепку тяжелого крючковатого носа из другого комплекта; не поддающуюся возрасту стройную подтянутую фигуру – и обрюзгший характер. Нутро с застывшей глыбой свинца и фамилия с уменьшительно-ласкательным суффиксом совершенно не впрягаются в одну телегу. Да ведь и театр, усмехается Лем, – это бордель, который корчит из себя храм.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
– Я находился в прекрасном месте, где меня не было, и вот меня извлекли оттуда и поместили туда, где я есть. Я не хотел рождаться, маме сделали кесарево сечение. У меня всегда было ощущение насильственности моего появления на свет. С первого писка началось сплошное насилие. Жизнь – гнет. Гнет – и существительное, и глагол. Высшей мерой для меня стал приговор к жизни.
Март 2016 г.
1957 г. Фото из семейного архива.
Есть подозрение, что он родился в рубашке, пусть и холщовой. Судьба определила ему место в уникальной семье, предоставив условия для самовыражения, интеллектуального развития, формирования актерской индивидуальности. Обеспечила травматическим опытом детства, сформировавшим неврастеника, но и давшим направление творчеству. Одарила благородным обликом, аристократической худобой, голосом необыкновенного тембра. Не говоря об ослепительном таланте, помноженном на одержимость актерским трудом. Он с остервенением рванул рубаху, превратил ее в рубище. Нагородил на ровной дороге преград, накопал ям. Пустился в путь, спотыкаясь и падая, чтобы, отталкиваясь от колдобин и кочек, взлетать, парить и снова падать.
Начинал он веселым, открытым, любознательным карапузом, да еще упитанным, мордатеньким, словно был создан для поглощения сплошных радостей. Тянул ручонки к книжкам с картинками, быстро запоминал прочитанное мамой вслух. На третьем году жизни с удовольствием разыгрывал перед восхищенными гостями образцово-показательный этюд: открывал сборник русских народных сказок и шпарил, как по писаному, в нужных местах переворачивал страницы, имитируя чтение. К четырем годам уже читал сам. Живо интересовался устройством кубиков, машинок, попадавшихся на пути предметов, вглядывался, исследовал, удивлялся, удивлял.
1958 г. Фото из семейного архива.
Трудности возникли, когда начал осознавать себя. Его память была специально устроена для собирания негативных впечатлений. Таково одно из самых ранних воспоминаний детства, очень рано заполнившегося рефлексией и тоской. Малыш, закутанный в шубу и шаль, выкатился из подъезда в зимний двор, раскинул ручонки, радостно бросился навстречу первому встречному. Им оказался хулиганистый пацан из соседнего дома. Старший приятель был занят решением своих личных вопросов и отреагировал по-простому, то есть толчком в грудь. Вовка, выкарабкиваясь из сугроба, сделал не по-детски суровый вывод: этому миру нет до тебя никакого дела, ты всегда будешь в нем чужим.
Он и внешне начал меняться: вытягиваться и худеть, вместе с пухлявостью истощалось жизнелюбие. Становилась осмысленной реакция на мамины строгости, замечания, придирки, требования. Появились вопросы, на которые не бывает ответа: почему я такой, почему такой мир вокруг меня. Проблема собственного уродства всегда была для него первичной, проблема несовершенства мира – вторичной. Обрушивал претензии на мать, требовал объяснений и оправданий, нападал, упрекал, орал, психовал, доводил до слез – она была бессильна под натиском гнева, но и она же являлась его причиной. Ну потому что он же не просил его рожать!
С детства полюбил быть один, чтобы предаваться размышлениям и мечтам. Глядя на облака, представлял, как откуда-то из небесных глубин явятся к нему инопланетяне и заберут с собой, в иные миры, устроенные совершенно иначе, чем заселенная людьми планета Земля. Очень скоро понял, что это несбыточная мечта, а его удел – тосковать о том, чего не бывает.
Будущий Художник категорически отказывался вливаться в социум. Отрицание началось еще в детском саду. Родители, с трудом выбившие место, тут же осознали, что зря они это сделали. Он забился в угол, завращал глазами, закатил истерику, едва воспитательница попыталась внедрить его в группу. Наутро его тащили туда волоком, он упирался и орал.
Дедсад был упразднен, но бабушка Анна Андреевна нуждалась в передышке. На помощь пришли бабушка Вера Абрамовна и дедушка Илья Зусьевич. Вовку отправили к ним в Чернигов. Там понравилось: деревянный дом, волшебный запах в сенях, большая добродушная собака, таинственный сад, спелая вишня прямо с ветки, сбитые коленки, свобода, свобода, свобода. И да, там он забывал, что всегда виноват и во всем неправ.
Чернигов, 1964 г. Фото из семейного архива.
Дальше предписывался пионерлагерь как универсальный для советских ребятишек вид каникулярного отдыха. Детсадовский бунт повторился в более изысканном варианте. Ярко выраженный социопат уже имел опыт борьбы за свои права. Шагая в строю на линейку, он больше не демонстрировал протест – потихонечку отстал, а потом помчался наутек. Вскоре оказался у забора, ограждавшего территорию, вцепился в него и застыл в глубокой печали. Так и просидел под забором до самого обеда и с тех пор стал регулярно там спасаться от своры оголтелых ровесников. Пока не приехала бабушка Анна Андреевна. Звонко лязгнули за ними металлические ворота.
У него оставалось летнее время для благодатного одиночества, в запасе имелись прекрасные дни сомнений и тягостных раздумий, но впереди неотвратимо маячил День знаний. Школа номер 99 была заточена явно не под него. Он невзлюбил ее сразу, причем взаимно – прежде всего за то (а потом уж и за всё остальное), что в связи с переездом всей семьи в новую квартиру пришлось покинуть школу прежнюю, где он проучился весь первый класс и вроде как привык, прикипел. Никто не оценил его героическое примирение с действительностью, наоборот, лишили единственной радости. Плакал, топал ногами, умолял не отнимать единственную радость, но никто не собирался возить его со Свердлова на Сибирскую. Ну и не учли серьезность проблемы. Подумаешь, привыкнет и здесь.
Но школа – это вам не лагерь, оттуда не сбежишь. Особенно если к малолетним преступникам приставлен несгибаемый надзиратель – учительница начальных классов Марья Михална. Своих детей у нее не было, всю себя она посвятила работе.
Марья Михална являлась типичным продуктом системы, за что пользовалась беспрекословным уважением руководства. Ее ставили в пример коллегам, но звание заслуженного учителя СССР так и не присудили. Мегера в толстых линзах сумела наладить железную дисциплину, никто пикнуть не смел. Стригла всех под одну гребенку, диктовала родителям, в какой парикмахерской ученик советской школы обязан сделать полубокс. Назначала универмаг, где следовало купить галстук, – пока до пионерского не доросли, полагался, как решила надзирательница, строгий мужской аксессуар в придачу к обязательной школьной форме. Евгений Семенович терпеливо учил сына наглаживать стрелки на брюках, от чего Лем пытался уклоняться, но не тут-то было. Эти единственные в его гардеробе серые брюки были ненавистны, как и галстук.
На перемене ребята из других классов умудрялись пронестись туда-сюда по широченной рекреации, как бы специально предназначенной для разминки конечностей, а Марья Михална стриноживала коней. Ставила контингент в пары и заставляла чинно ходить по кругу, рявкая на них во всю мощь своей гортани. На уроках била указкой по голове.
Конфликт с новеньким начался сразу, с первого дня. Он развалился за партой и уставился в потолок. Едва повелительница занесла над еще не обкромсанными вихрами указку, как он посмел перехватить ее руку и отпихнул! Ну и подписал себе приговор на изгоя, оставаясь таковым все школьные годы чудесные.
Училка запретила классу какие-либо контакты с Лемешонком, бдительно отслеживала неблагонадежных, запрет нарушавших. К нему осмеливались приближаться лишь в туалете, где и закипало нерегламентированное братство. Но звенел звонок, и воительница хваталась за свой меч: «Посмотрите, он у нас из актерской семьи! Может, я бы тоже могла по сцене прыгать! Но надо же кому-то и работать!». А когда из него поперли актерские выкрутасы, то всю силу своего презрения вкладывала Марья Михална в реплику «ишь ты, артист!».
Огромными красными буквами она писала в дневнике изгоя жалобы родителям, гневным росчерком пера вызывала их в школу. Реагируя на эти вопли, папа разводил руками, мама делала строжайший выговор, а бабушка шла на ковер, после чего высказывалась на семейном совете: «А че ему, суке, сделается? Хоть кол ему на голове теши!». Ситуацию пустили на самотек.
1967 г. Фото из семейного архива.
Достигнув пионерского возраста, Лемешонок уже слыл законченным негодяем. Негодяя, коли от него было невозможно избавиться, отсадили на камчатку. Там он жил своей, отдельной от учебного процесса, жизнью – читал книгу под крышкой парты, созерцал плывущий за окном самолет. На все, абсолютно на все замечания взрослых реагировал нервно, то есть враждебно. Критиковать его никто не имел права, поскольку на это есть он сам, в чем этот «сам» явно преуспел. А если в кои-то веки удостаивался похвалы, то, как и полагается сомневающимся интеллигентам, делил ее на тринадцать.
Учителям советской выправки было чуждо явление инопланетного чудовища. У них, в целях самосохранения, выработалась на него идиосинкразия. В его поступках они усматривали наглый вызов, злонамеренный бунт, покушение на свой авторитет. Бесила его живость, бесили дерзость и независимость, бесили вопросы невпопад, бесил распухший портфель, который валялся в проходе между партами.
Юный Лемешонок втиснул в него все имеющиеся у него учебники и с тех пор ревизию не производил. Ярко выраженный холерик, он яростно швырял их об стену, когда его заставляли делать уроки. Настал момент, когда на глазах математички он в знак ненависти запихал в рот и сжевал страницу из учебника. Классная руководительница грозилась, что поставит в журнале напротив его фамилии пометку у. о. В смысле, умственно отсталый ученик.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ЗЛОБУ И НЕНАВИСТЬ
– Учебу я возненавидел с первого класса. Быстро понял, что не люблю и не хочу учиться. Особенно меня бесила математика! Мозг отключался, едва я открывал учебник. Тошнило от всей этой абракадабры – цифр, скобок, примеров, формул. Мама наняла репетитора, а я засыпал – сначала вырубался внутри, потом снаружи. Литературу я тоже невзлюбил. Всё, что я говорил и писал, учителям не подходило. Сочинение на тему «Береги честь смолоду» я написал про Гамлета, и оказалось, что неверно всё понял. Как можно было существовать в советской школе, где не учили думать, а диктовали, как нужно думать? А я был склонен к самостоятельному мышлению, что было категорически не приемлемо, и поэтому был двоечником…
Мама очень любила фильм «Доживем до понедельника». А я считал его приторно-лживым, не имеющим никакого отношения к советской школе, да и к самой жизни. Правда, в седьмом классе у меня возникла светлая полоса. Директор школы, литератор, часто сидел у нас на уроках литературы. Он оценил, как я прочитал монолог Чацкого. Что-то он во мне узрел – и стал вызывать меня к себе в кабинет, беседовать, в общем, курировал. Но эта светлая полоса быстро закончилась. Я подвел директора, продолжая получать двойки по всем предметам. Он разочаровался во мне – и потерял всякий интерес.
Апрель 2016 г.