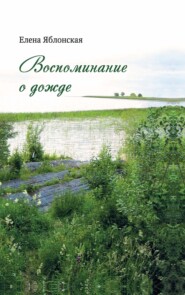скачать книгу бесплатно
– Да ты что, одни актёры чего стоят! Даже эпизодические. Как, например, здорово Караченцов карточного шулера играет! Моя тётушка таких персонажей называла «жеребец в мундире».
– Конечно, – ехидствовала Лариска, – на то она наша великая актёрская школа, они тебе каждого пляжного проходимца как Гамлета сыграют, а мы верим, верим…
– А чего ж не верить? Ведь и в фильме всё – правда!
– Вот именно! И мне эта правда глаза колет.
Пожалуй, если б не «эта правда», я бы за Юрика не вышла, не очень он мне нравился, честно говоря, и Лариска не вышла бы за своего…
– Представляешь, Лида, – рассказывала Лариска, – он посмотрел какую-то передачу или фильм по Хемингуэю, я над статьёй сижу, Алёнка кашляет, бронхит, боялись, чтоб не воспаление лёгких, а он расхаживает по квартире и цедит сквозь зубы, прямо с наслаждением каким-то: «У суки длинные руки». Это из «Прощай, оружие!», да? Или из «Фиесты»? Хемингуэй или там герой его про леди Эшли так. «У суки длинные руки» – и смотрит с ненавистью. Лида, за что?!
Лариска стоит у плиты, как художник у мольберта. В правой руке шумовка-кисть, Ларка ею возбуждённо размахивает. Левая рука поддерживает и упирает в бедро палитру с красками – круглую тяжёлую крышку от казана в разноцветно поблёскивающих капельках. Мелкие капли – жир, капли пара посветлее и покрупнее.
– Лида, разве я ему навязывалась, держала я его, что ли? Я говорю: «А я тебя не держу, хочешь, завтра же сама подам на развод, только ты с Алёнкой посиди, врач должен прийти…»
– А он?
– Ну, что он… Он говорит: «Э-э, нет, ишь чего захотела. Я разведусь, а ты с Васечкой будешь жить-поживать да добра наживать, нет, я не разведусь». Лида, что я ему сделала, что?!
Васечка – это кот. Отличный, между прочим, кот, умный, ласковый, с Алёнкой играл целыми днями. Ларка его котёнком из мусоропровода вытащила. Вот только, достигши половой зрелости, стал Васечка время от времени гадить – то в прихожей, то за диваном. Ларкин муж его как-то из окна выбросил, с третьего этажа. Алёнка разревелась, а Лариска побежала вниз. Васечка, целый и невредимый, сидел на клумбе и шипел на снег – снега он никогда не видел.
– Конечно, ты его не держала, – я стараюсь говорить рассудительно, – так это-то и обидно. Но ты ведь содержала его, как леди Эшли Хемингуэя и всю их компанию. Вот он и возненавидел… Помнишь, моя тётушка говорила: «Девчонки, лучше голодайте, только не зарабатывайте больше мужей!»?
– Да я бы рада голодать, – Лариска всхлипывает, – но при чём тут ребёнок? Алёнка же простужалась тогда непрерывно, то бронхит, то трахеит… Юрик твой хоть репетиторствовал, а мой разляжется перед телевизором, с Васечкой, между прочим, и «я, видите ли, учёный с мировым именем, мне думать надо, а не дебилов натаскивать…» – Да сколько там Юрик репетиторствовал, двое учеников только и было за всё время… Ой, что ты делаешь?! Плов не надо размешивать, только в самом конце, меня Алия учила… Настоящий татарский плов…
– Так и меня Алька научила! Я говорю ей: «У меня не получается по вашей азиатской методе, обязательно подгорает», а она: «И у меня подгорает, я тоже помешиваю и воду подливаю, но по правилам этого нельзя…» Как она, кстати? Нашла себе кого-нибудь?
– Кого ещё?! Зачем? Ведь Ринат…
– Да какой Ринат! Она его год назад бросила. Не знала? А ещё говоришь: «Курослеповка – деревня, все про всех всё знают…»
– Но почему?! Ринат же её обожал, на руках носил, помнишь, в общежитии, по лестнице…
– Ага, это на людях, а дома зудел изо дня в день, что он, кто бы мог подумать, мусульманин и имеет право завести себе ещё трёх жён, кроме Альки, и чтоб она всегда об этом помнила…
– Ну надо же! А по рынку, как баран на верёвке, за женой ходил… Алька, как встретится, сразу заводит: «Ах, мой Ринатик напишет докторскую, ему дадут лабораторию, а у тебя муж дурак, хоть бы любовника завела». А когда мы с Юриком развелись: «Не понимаю, как это можно – не найти себе мужика…» Она-то, конечно, нашла!
Господи, какой Ринат, баран, Васечка!.. Васечка, кстати, сбежал, когда Лариска развелась и переехала к маме. Мне сейчас надо не Васечку вспоминать, а думать, как бы по-умному ответить этому самовлюблённому барану, чтобы он не воображал, что я тоже готова… Да, я развелась, хотя мой Юрик не заводил ни четырёх, ни даже двух жён, как этот Павел, просто наша семья не выдержала испытания перестройкой. Нет, это не подойдёт, Павел и так смотрит сочувственно, понимающе… Алька бы наврала с три короба, не зря же наша Курослеповка – известный научный центр. Итак, мой муж – учёный с мировым именем, очень прилично зарабатывает, нет, не здесь, конечно. Он всё время за границей. Тогда почему я давлюсь в очереди на маршрутку? А мы не покупаем машину. Зачем? Я ведь тоже всё время с мужем за границей. Сейчас вот приехала, надо продлить визу… Куда? В Америку! Как раз еду из посольства. Конечно, продлили…
Вот хорошая мысль, это может выйти правдоподобно. Я была в американском посольстве лет десять назад, до дефолта ещё. Лариска уехала в Штаты со вторым мужем, пригласила в гости. Я не очень туда рвалась: Юрик никак не защитится, сын в седьмом классе, по русскому двойка… Но Ларка настаивала. Мы долго ждали открытия, потом нас по очереди запускали на собеседование в комнату с кабинками такими, как стойла. Я попала в стойло к лысому, бородатому и очкастому, необыкновенно похожему на политолога Дмитрия Саймса. И акцент точно такой же! Потом думала, может, это Саймс и был? Я всё честно рассказала: недели на две, к подруге, учились вместе, они с мужем в университете работают, все расходы берут на себя…
– А вы сколько зарабатываете?
– Мало, конечно, как все научные сотрудники сейчас, но на билет хватит, я соросовский грант получила, да и подруга всё оплатит.
«Саймс» заявил, что не может дать мне визу:
– А вдруг вы устроитесь горничной в гостиницу за тысячу долларов и останетесь в Штатах навсегда?
– Да какой горничной! – возмутилась я. – Я кандидат наук, учёный с мировым именем, мне журналы за статьи должны… Наконец, у меня здесь муж и сын остаются!
– Все так говорят, а потом работают горничными, – дружелюбно сказал «Саймс». – Я-то вам верю, но поймите, я просто не имею права дать визу человеку с таким уровнем доходов.
Тогда как раз разгорелся телевизионный скандал: американцы выдворяли Мишку Япончика. Я злорадствовала: вот у кого достойный уровень доходов, вот и получите! Впрочем, им что? Выдворили Мишку, да и дело с концом. Он потом интервью давал: оказывается, он вовсе и не бандит, а честный, милый такой, интеллигентный… Лариске я написала, что глубоко оскорблена страной, гражданства которой она доискивалась: и не зови, не приеду, «уж лучше вы к нам…»
За этими воспоминаниями я и не заметила, как подъехали к Чукановской. Автобус останавливается, хотя никто не выходит, всем до Курослеповки или в Сосновку. Сколько раз, прижавшись виском к обледенелому или залитому дождём стеклу, я проваливалась в тяжёлый сон, а здесь, когда автобус трогался, вдруг выныривала, начинала кричать и рваться: «Что, Курослеповка?! Я выхожу! Подождите!»
– Да сидите вы! – с отвращением говорили сосновцы. – Это Чукановская.
Они, сосновские, за что-то нас ненавидят. Впрочем, понятно за что. За то, что учёные, за то, что ближе к Москве, за то, что у нас академическая больница, а их Сосновка – дружно спивающийся военный городок, да мало ли за что…
Нет, ничего не выйдет, поздно, Павел уже всё понял, да и я – не Алька, не получится у меня. Неубедительно бормочу про бывшего мужа, хорошего человека – «просто он не был готов к новым условиям», – про то, что не замужем, но прекрасно себя чувствую, у меня сын, друзья, работа в Москве… А потом мы молчим: я – угрюмо, он – сочувственно. Нет, наверное, презрительно. Скорей бы уж Курослеповка!
Мы подъезжаем. Опять разноголосо и нервно верещат мобильники. «Только что подъехал, можешь разогревать», – это студент маме. «Да, я в КаэСе, а что, нельзя?» – кокетничает девчонка с невидимым собеседником. Появляется ярко освещённый плакат с развесистым курослепом и надписью: «Курослеповский интеллект – богатство наше. На свете нет наукограда краше!». Не Андрюша ли Орлов придумал этот слоган?
– Написали бы лучше «Куриные мозги – богатство наше», по крайней мере, честнее… Что вы смеётесь, Павел? Я не шучу, у нас тут неподалёку птицефабрику открыли, её продукцию даже по телевизору рекламируют, не видели? Там в основном сосновские офицеры работают…
Павел мягко, дружелюбно просит мой телефон. Да как он смеет, этот многоженец, этот старик, наконец! Да неужели он думает, что я… Да я никогда…
– Зачем вам?
– Да так просто. У нас в Липецке мёд хороший, я мог бы привезти вам и вашему сыну. Скажите, я запомню.
– Мы не едим мёд, – жалобно говорю я, и это чистая правда. Почему же я всё-таки произношу дрожащим тоненьким голоском: «четыре, восемь, три…»?
Я иду домой. Изогнутошеим лохнесским чудовищем, призрачным «летучим голландцем» выплывает из ядовитого тумана моя многоэтажка. Вот-вот зацветёт сирень у подъезда, отважно бросится распахнутой пышной грудью на серую кирпичную стену – на абордаж! А там и жасмин – разухабистый, рьяный, безумный, безудержный…
«И зачем, зачем я сказала ему телефон? – роятся в моей голове запоздалые, сбивчивые мысли. – Ведь ни врать, ни объяснять ничего не надо было, разве не могла я назвать другие цифры или просто переставить: “четыре, семь, девять…”? И почему я сразу не сказала ему, что он… Что так нельзя… Что лучше всю жизнь одной, чем так, как его жёны… Ну, пусть он только сунется теперь со своим мёдом, со своей отвратительно красивой бородой, этот самоуверенный болван, этот индюк, баран… этот… этот… Уж тогда-то я ему всё выскажу, всё!»
Он, впрочем, не позвонил.
Третий ёж
1
Ежи не были редкостью в южном городе, где мне посчастливилось родиться. И до сих пор в покрытых сосновыми лесами обступивших город горах, в многочисленных скверах и санаторных парках ёжикам есть где разгуляться. Однако первого своего ежа я обрела не в лесу и не в парке, а на самой что ни на есть «городской» улице. Ныне она зовётся, как и до революции, Екатерининской, а тогда была улицей Литкенса. Кто такой Литкенс – не знаю до сих пор, наверное, какой-нибудь революционер. Екатерининская-Литкенса славится невероятным количеством канализационных люков. Буквально на каждом шагу, через метр-полтора натыкаешься на старинную прямоугольную решётку или чугунный кругляш с выпукло отчеканенными надписями. Если приглядеться, можно прочитать, что данное металлическое изделие произведено таким-то товариществом в 1907 или в 1896 году. А мне даже приглядываться и наклоняться не требовалось, потому что было мне пять лет от роду, и читала я всё, что попадалось на глаза.
Ёж деловито семенил от одного люка к другому и весь, до последней иголочки, графически чётко выделялся на ярко-белом пятне асфальте в пересекающихся лучах фонаря и луны. При моём приближении ёж, как ему и положено, свернулся, но то ли сам не счёл нужным меня колоть, то ли был так молод, что его колючки ещё не приобрели необходимой жёсткости. Во всяком случае, я голыми руками несла серый шар с любопытно высовывающимся чёрным носиком и такими же бусинками глаз. Благо дом совсем рядом.
Ёжика поселили на деревянной, обвитой глицинией веранде. Вернее, он сам там поселился, потому что мог беспрепятственно ходить по всей квартире и выходить при желании во двор. Ему у нас, несомненно, понравилось. Любимым блюдом ёжика была вермишель с творогом или просто с маслом. Вообще-то её готовили для меня, а я щедро делилась с ёжинькой. Мы так и звали его – Ёжинька. Обыкновенно Ёжинька лежал на спине у меня на коленях и прилежно разевал рот. Я отправляла туда вермишель ложку за ложкой, иногда если мама спохватывалась, то одну-другую ложку проглатывала сама. В отличие от меня, Ёжинька готов был поглощать вермишель бесконечно. Когда объём съеденного начинал превышать его небольшой желудок, заглотанная вермишель вываливалась на серый животик. Ёжинька, ловко изогнувшись, подбирал её язычком и снова жадно раскрывал рот. Трапезы обычно заканчивались угрозами в мой адрес: и сама не ем, и причиняю вред здоровью животного!
Хотя ёжика кормила я, больше всех он, кажется, любил папу. Долгими зимними вечерами папа с газетой, положив ногу на ногу, сиживал в кресле у журнального столика под торшером. Ёжинька забирался под брючину на папину ногу и, замерев, сидел так часами. Чтобы не беспокоить Ёжиньку, я подносила папе чай, книгу или свежую газету взамен прочитанной. Мы с папой как-то провели исследование: обмерили Ёжиньку с головы до ног и сравнили результаты с данными Брема. Оказалось, наш ёж полностью соответствует среднестатистическим параметрам – и длина его, и ширина, и окрас, а также длина лапок и крохотного хвоста полностью совпали с научными! Как я теперь понимаю, удивительным было совсем другое: ёж милостиво разрешил себя измерить. Но далеко не всем позволялось фамильярничать. Мама как-то вздумала, держа Ёжиньку на руках, почесать его под подбородком, это место отличалось особо мягкой светло-дымчатой шёрсткой.
Наш милый Ёжинька цапнул её за палец! Зубки оказались очень острыми.
Ёжинька прожил у нас не менее двух лет. Помню, когда случилась трагедия, я уже ходила в школу. Соседи снизу иногда жаловались, что ёж мешает спать, по ночам топает по деревянному полу веранды. Но вот прошло несколько дней, Ёжинька не появлялся. «Сегодня топотал?» – с надеждой спрашивала я соседку. «Нет, больше не топочет», – расстроенно говорила тётя Вера. Недели через две, когда я рылась в стоявшем на веранде бабушкином сундуке и невзначай оторвала взгляд от какого-то платья с рюшами, то увидела тёмное пятно на буровато-серой тряпке, что висела на спинке кровати. Собственно, это была не одна кровать, а несколько разобранных – составленных в ряд железных спинок и панцирных сеток. Я десятки раз проходила мимо них в поисках Ёжиньки и ничего не замечала. Ёжинька, видимо, лазил по ним, зацепился колючками за тряпку, пытаясь высвободиться, просунул голову между прутьев и задохнулся. Я заорала. Прибежала мама и тоже заревела в голос. Пришёл папа – было воскресенье, – молча снял с кровати крохотное тельце, вместе с тряпкой завернул в газету и вынес на улицу, в мусорный бак. В тот день он не сказал нам ни единого слова, а мы с мамой прорыдали до позднего вечера.
2
Вторая история про ежа веселей, а я на десять лет старше. Десятый класс, середина мая. Нас, видимо, не слишком волнуют грядущие выпускные экзамены и поступление в вузы, потому что мы с одноклассниками постоянно находим время и поводы для разного рода безобразий. Вот и вчера Володька Граматунов пригласил всех к себе кататься на мопеде и ловить ежей. Он живёт на горе возле старинного замка, вокруг «графских развалин» и Володькиного дома – запущенный парк. На приглашение откликнулись только мы с Мишкой Пестеревым. Я – из любви к ежам, Мишка – из любви ко мне. Приходим. Володьки нет. «Катается», – говорит Володькина мама и смотрит с неодобрением. Мопед Володька собрал себе сам из запчастей, найденных в отцовском гараже. Автоделу он отдаёт неизмеримо больше времени и души, чем учёбе.
На другой день мы набрасываемся на Граматунова с упрёками. «А это кто такой?» – говорит он и вынимает из-за пазухи ежа. Как и Ёжинька моего детства, Володькин ёж и не думает колоться, поглядывает на столпившийся вокруг десятый «А» с нескрываемой симпатией. Кто-то помчался в буфет за молоком. Его нам выдавали бесплатно. Мишка, большой любитель молока, как-то на перемене выпивший на спор целое ведро, пошутил, что не обязан делиться.
Ёж охотно пил молоко, угощался булочками, иногда вырывался из двадцати восьми пар рук и бегал по партам. Учителя возмущались. Наша классная руководительница Лидия Васильевна отняла его и ходила с ежом на плече из класса в класс, с урока на урок. Четвёртые классы встречали их восторженным рёвом. Правда, после пятого урока она его нам вернула – не решилась явиться с ежом на педсовет. А шестым уроком у нас, как на грех, была физика.
Свирепый физик Борис Маркович потребовал: ежа немедленно удалить. Мы возражали. Тем временем ёж вырвался из Мишкиных рук и забрался под кафедру. В физическом кабинете для опытов предусмотрена раковина, под доски, скрывавшие водопроводные трубы, и забился наш ёжик, протиснулся в щель. Остаток урока прошёл в нервозной обстановке, а под конец Борис Маркич объявил, что если к понедельнику вверенный ему кабинет не будет освобождён от ежа, то он поставит Мишке в аттестат не пятёрку, а четвёрку! Это был запрещённый и довольно неубедительный приём: все понимали, что Борис Маркич поставит то, на что Мишка сдаст. А сдавать мы будем, к счастью, не одному Борис Маркичу, а комиссии, в составе которой непременно присутствует как математик и наша Лидия Васильевна. Но Пестерев всё равно испугался.
На другой день, в воскресенье, был мой день рождения. Утром, часов в десять, явился мрачный Пестерев – в одной руке гвоздичка, в другой топор, – сунул мне цветок и, махнув топором в сторону школы (я жила рядом), бросил: «Пошли!» Надо ли говорить, что никаких охранников тогда и в помине не было, ни школа, ни отдельные кабинеты не запирались! Мишка быстро отодрал несколько досок и вытащил на свет Божий ежа, который, похоже, и рад был, да не знал, как выбраться. Потом Пестер прибил доски на прежнее место, а я, чтобы окончательно умилостивить Борис Маркича, помыла полы. Ежа, разумеется, потащили ко мне. На кухне предложили молока, он не отказался, да ещё по собственному почину поел чего-то из кошачье-собачьей миски. Терьер Пифинька и кот Шустрик обожали друг друга и кормились совместно. «Что там у вас? Ёжинька? – позвала мама из спальни. – Дайте мне его!» Я вручила ей ежа. Папа, читавший в постели газету, внимательно посмотрел и ничего не сказал. А Пифинька, валявшийся, как всегда, поверх одеяла в ногах родителей, очень обрадовался. Шустрик в это время пропадал где-то на улице. Так я и оставила их: папу с газетой, маму с «Новым миром», кудлатого Пифиньку у них в ногах и ежа, вальяжно разлёгшегося между мамой и папой в точно такой же позе, что и Пифинька, на спине, лапками вверх. А мы с Мишкой побежали на пляж.
Когда я вернулась, папа обедал на кухне, а мама с Пифинькой и «Новым миром» по-прежнему нежились в постели. Ежа не было. «Ушёл», – сказала мама. «А Шустрик его хоть видел?» – расстроилась я, заметив кота, вылизывавшегося на подоконнике. «Почём я знаю? – отмахнулась мама. – Не морочь мне голову!» «Ну, а ты куда смотрел? – спросила я Пифиньку про себя. – Собака называется!» Тогда я ещё не разучилась разговаривать со зверями молча, телепатически. Пифинька виновато вильнул хвостом.
3
Третий ёж появился в моей жизни, когда я стала совсем взрослой – моему сыну было восемь лет. Сын учился во втором классе, а мы с мужем работали в институтах подмосковного академгородка Курослеповка. На территории моего института, построенного прямо в лесу и обнесённого бетонной стеной и колючей проволокой, жили две косули, целая стая уток, лебедь и какие-то тетёрки в вольерах. Всю эту живность поставлял нам соседний Институт экологии и эволюции животных. Лебедь нередко подходил к проходной, и вооружённый охранник очень серьёзно говорил: «Пропуск!» Потоптавшись и издав несколько гортанных звуков, лебедь шёл восвояси к пруду, где плескались довольные жизнью, никуда не стремившиеся утки. Копытные не пытались выйти за проходную, но всё время рвались в лабораторный корпус, забегали даже на третий этаж. Уборщица вывешивала в вестибюле отчаянные объявления: «ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! ВХОДИТ ОЛЕНЬ И ГАДИТ!»
Как-то по дороге с работы мы с коллегой встретили ежа. Судя по колючим, частью обломанным желтоватым иголкам, ёж был немолод и утомлён жизнью. При виде нас он сразу же свернулся, и взять его руками не представлялось возможным. Мой коллега сбегал в лабораторию, принёс бумажный рулон от самописца. Ежа предъявили охраннику. И хотя его, даже завёрнутого в линованную бумагу, никак нельзя было спутать с катарометром, охранник, как мы и предполагали, потребовал пропуск «на вынос материальных ценностей». Не говоря ни слова, я отступила на несколько шагов и принялась вытряхивать «материальную ценность» из свёртка на клумбу. Охранник испугался так, будто я оставляла на его попечении гадюку. «Идите, идите! – завопил. – Во народ! Шуток не понимают…»
Дома нас ждали. Мой товарищ успел позвонить и сообщить приятную новость. Для ещё одного члена семьи были приготовлены молоко, вермишель, творог, свежая капуста, морковь, яблоки, печенье и ещё какие-то, специально для него подобранные яства. Ёж, однако, не стал ни пить, ни есть, забежал в туалет и уткнулся носом в веник. Так он и стоял там, к великому огорчению нашего молодого, игривого и дружелюбного кота Тихона. Тихон многократно подходил к туалету и, оглядываясь на нас за поддержкой, подкрадывался к ежу. Ёж топорщил колючки и злобно хрипел. Обескураженный кот отступал. Так продолжалось двое суток. Ёж не дотрагивался до угощения и, похоже, менять тактику не собирался. «Не ёж, а какой-то, прости господи… козёл!» – подытожил всеобщее разочарование глава семьи. Решено было вернуть гостя в естественную среду обитания, а то ещё помрёт с голоду. Тем более проку от него никакого, а Тихону – так и вовсе одно расстройство.
Сипящего ежа завернули в «Литературную газету» и всей семьёй, оставив на хозяйстве Тихона, отнесли в близлежащий лесок, где и выпустили на тропинку. Он не спешил уходить и, насупившись, нелюдимо взирал на нас из-под своих колючек. «Иди уже, тормоз!» – не выдержал сын, и третий ёж, шурша жухлой прошлогодней листвой, задумчиво поковылял прочь.
Тапочки Левитана
Я зашла к Орловым за книгами. Мне их много надо, я ведь теперь на Высших литературных курсах учусь. А в библиотеке, как ни придёшь, всё разобрано. По Средним векам надо, по Возрождению… По философии что-нибудь, по античности, если есть…
Я стояла в прихожей и укладывала книги в полиэтиленовый мешок, а Андрей кричал из комнаты:
– Аристотеля возьмёшь? «Сочинения», первый том…
– Давай! – радовалась я.
– «Памятники византийской литературы IX–XIV веков»… Давать?
– Византию нам не читали… Всё равно давай! А Платона нет?
– Что-то не вижу… – Андрюша, стоя на стремянке, рылся в книжных полках, набитых до самого потолка. – А это возьмёшь? «История зарубежной литературы XVIIXVIII веков»?
– Учебник? Конечно!
– Слушай, семьдесят третий год издания! Татьяна по нему училась… Зачем тебе это старьё?
– Ну, пригодится…
Из кухни вышла Татьяна, Андрюшина жена, учительница русского и литературы. Сказала решительно:
– Классика не устаревает. Вот ещё возьми, по девятнадцатому веку… Андрей, что ты её в коридоре держишь? Раздевайся, чаю попьём…
– Нет, спасибо, мне некогда…
Раздался звонок в домофон.
– А вот теперь ты останешься, – с довольным видом сказал Андрей и слез со стремянки. – Это Клименко.
Действительно, вошёл Саша Клименко, завлаб, химик, Андрюшин друг. В одной руке бутылка «Nemiroff с мёдом и перцем», в другой шоколадка.
Бутылку отдал Андрею, шоколадку – Татьяне, а на меня покосился неодобрительно:
– А ты всё с книжками? Иш-шь, пис-сатель…
Прошли на кухню.
– В морозилку её! – распорядился Клименко. – Водка должна быть вязкой, как глицерин. Они гуманитарии, а ты, бывший химик, ты-то хоть помнишь, как глицерин течёт? – Такое не забывается, – сказала я, чтобы сделать Клименко приятное.
Таня быстро накрывала на стол: квашеная капуста с клюквой, варёная картошка, рыбка жареная… Это потому что Филипповский пост.
– Ну, рассказывай, – сказал Клименко. – Говорят, в Москве теперь живёшь…
– Ага, вчера на Левитане была!
– Что, выставка? В Третьяковке?
– Нет, в ЦДХ, на Крымском Валу…
– Это и есть филиал Третьяковки, – вмешался Андрюша, – никакое не ЦДХ… Подождите, сейчас я… – и убежал. Клименко полез в морозилку. Вынул и придирчиво оглядел бутылку. Таня оглянулась от плиты:
– Саша, не надо… она не охладилась, как ты любишь… у него там ещё есть, да, вот эта, тащи…
Клименко вытянул за горлышко заиндевевшую «Старую Москву», одобрительно буркнул «угу» и разлил по рюмкам:
– Хозяин! Ты где? Не задерживай процесс!
Андрюша появился в дверях с большим альбомом в руках. На обложке знакомо рыжели берёзы над рекой. Вода в речке не голубая, а сизая оттого, что в ней отражаются осенние облака. Я обрадовалась:
– Ой, это же с выставки каталог! Ты что, тоже был?..
– Нет ещё, мне третьяковцы подарили… я им… э-э-э… тэк скэзать… материалы кой-какие… м-м-м… подобрал… по Морозову… только не Савва, а Сергей Тимофеич… Скорее всего, это он с Левитаном в Плёс ездил, а вовсе не Савва… Елена, не лезь, у тебя руки в рыбе!
– Ну, давайте, – сказал Клименко, – за тебя, Орлов, и за твою… э-э-э… тэк скэзать… успешную краеведческую деятельность…
– Саша, какой ты сегодня многословный, – удивилась Татьяна.
– Повод обязывает – сотрудничество нашего… м-м-м… выдающегося историка с Третьяковкой!
– За меня потом, – скромно сказал Андрюша, – давайте лучше за Исаака Ильича, хороший был мужик.
Чокнулись, выпили. Водка была такой холодной, что у меня заломило зубы.
– Ой, что ж это мы? – испугалась Татьяна. – Поминают не чокаясь.