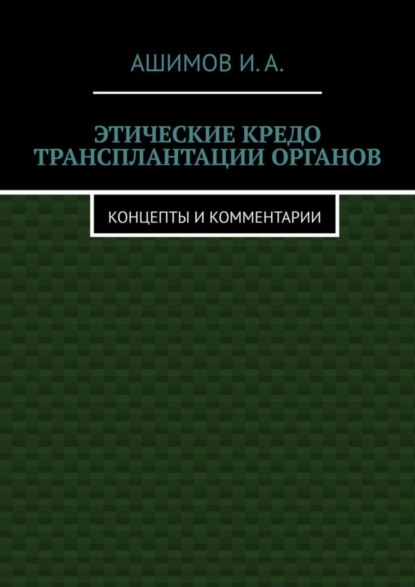
Полная версия:
Этические кредо трансплантации органов. Концепты и комментарии
Следует отметить, в настоящее время ОП трансплантологии резко обострились и эта «проблемная сверхситуация», связана с известными трудностями разрешения морально-этических (так называемых «проклятых вопросов») трансплантологии. Медиков побуждает искать ответы на свои вопросы в социально-философском дискурсе – главная цель – необходимость рационализации мышления как главного, универсального инструмента познания и, соответственно, разрешения ОП [12]. Очевидно, что пересадка ЖВО – это дорогостоящие операции, которые потребляют значительные ресурсы здравоохранения [23,235,300]. Одним из ОП современной трансплантологии является проблема ее оправданности, как лечебного метода.
В условиях острой нехватки средств (лекарств, инструментария, оборудования) морально ли затрачивать ресурсы для спасения жизни незначительному числу граждан, если другие пути их использования в системе практического здравоохранения позволят вылечить и спасти большее число людей? В этическом плане эта проблема становится наиболее острой в условиях современной социально-экономической ситуации в КР. На наш взгляд, исходя из сказанного выше, первая, причем особенно актуальная для нашей страны, проблема – проблема оправданности развития трансплантологии как таковой. Принцип справедливости гласит «Каждый должен получить то, что ему причитается» [95]. В этом аспекте, нынешняя Конституция КР, как, впрочем, и прежняя, а также Законы КР в сфере здравоохранения, включая Закон КР «О трансплантации органов и/или тканей», гарантируют полный доступ граждан страны к системе здравоохранения, медицине и, наконец, методу пересадки ЖВО.
ОП является то, что с одной стороны, государством декларируется такая гарантия (de-ure), но с другой стороны – такие обязательства государством не выполняются на протяжении всех лет суверенитета (de-facto). В отличие от процитированного выше принципа, Аристотелевский принцип распределительной справедливости, действующий при ограниченных ресурсах гласит несколько иначе – «это надо делать исходя из разумности его потребностей» [16].
На наш взгляд, несмотря ни на что, за исходный постулат следует взять то, что жизнь и здоровье – фундаментально разумная потребности, на фоне которого все остальные потребности в сравнительном плане – это неразумная потребность. И здесь существует ОП: с одной стороны, государство учитывает необходимость соблюдения распределительной справедливости, декларируя приоритет сохранения жизни и здоровья своих граждан (de-ure), но с другой – сам же его и нарушает, что выражается тем, что до сих пор пересадка органов, как метод лечения обреченных больных с помощью пересадки им органов, остается не реализованным видом медицинской помощи в КР (de-facto).
Нужно признать, что в КР слагается парадоксальное общественное отношение: с одной стороны (de-ure), кардинальная потребность граждан страны в необходимом лечении путем трансплантации органов остается не удовлетворенной, а в то же время (de-facto), каким-то образом удовлетворяется потребность отдельных его граждан в обогащении, удовлетворении личных интересов и прочее. Надо ли с этим мирится? Если, да, то медики обречены на профессиональное выгорание, а если нет, то надо признать и обеспечить приоритет трансплантологии. Такова логика концептуального подхода к проблеме оправданности трансплантологии в КР.
По теории справедливости Д. Ролза «каждый индивид должен обладать равным правом в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных людей» [256]. Вместе с тем, данная теория допускает справедливым – быстрое обогащение одних, сопровождаемое медленным ростом благосостояния других. Ю. Хабермас подчеркивает различия между этикой нормы и этикой ценностей. По его мнению, норма обязательна для всех, а ценности – нет [325]. Оба автора едины во мнении о том, что справедливость в сравнении с добром более приоритетна.
Продолжая мысль о распределительной справедливости, следует упомянут о таком понятии, как макрораспределении, скажем, доли трансплантологии в бюджетном графике страны. В этой связи, надо упомянуть следующее: ныне в КР трансплантологическая служба не имеет этой доли вообще, главным образом, из-за чего до сих пор и не осуществляется пересадка органов в КР. В такой ситуации интересен момент обоснования принципа справедливости Д. Ролза. После установления первого и второго принципа справедливости с учетом их приоритетности могут рассмотрены и другие принципы, например полезность [256]. Есть проблемы и в микрораспределении – доле трансплантологии в бюджетном секторе здравоохранения. Она мизерная, а между тем для лечения наркоманов Министерством здравоохранения КР выделяется в 12 раз больше денежных средств, нежели для реализации трансплантологической программы КР.
Следует упомянуть о морально оправданном критерии распределения: ограничение доступности программ оздоровления для тех, кто потерял здоровье в силу ненормального образа жизни, в частности наркомании. Здесь заложено еще одно ОП: с одной стороны, государством выделяется тот или иной объем средств на здравоохранение (de-ure), а с другой стороны – здравоохранительная политика страны остается всегда ущербной из-за моральной неоправданности распределения средств (de-facto). А.Д.Сахаров всегда защищал тезис о том, что каждый человек обладает неприкосновенным правом на свободу, в связи с чем, функции государства должны ограничены защитой от насилия и мошенничества [321]. Таковы задачи «минимального государства». В этом плане, такая этика противостоит этике справедливости Д. Ролза, утверждающей «Несправедливо поощрять слабых за счет сильных» [256].
Еще одно ОП – это то, что во всем мире трансплантология признается приоритетным разделом здравоохранения, науки и медицины (de-ure), тогда как в здравоохранительной политике КР из-за ограниченности средств данный раздел по-прежнему остается в цейтноте, то есть вне государственных приоритетов (de-facto). Между тем, трансплантология является одной из перспективных «зон роста», так как разрабатывает новейшие медицинские технологии высшей категории сложности, которые обеспечивают прогрессивное развитие здравоохранения и медицинской науки [300]. В связи с изложенным выше разрешение указанных нами ОП лежит: а) в плоскости справедливого распределения дефицитных ресурсов здравоохранения; б) повышении заинтересованности общества к проблемам трансплантологии; в) четко выверенной моральной оправданной политики государства в сфере науки, медицины и здравоохранения.
Существует проблема в адекватности взаимопонимания между медиками, трансплантологами и общественности. Можно ли сетовать на то, что многие проблемы трансплантологии неведомы общественности? В этом аспекте, хотелось бы подчеркнуть оптимальность момента, когда между научно-практическими сообществами (разрабатывающие проблему!) существует высокая степень открытости («минимум изоляции»), тогда как, пропагандируемая без основания высокая степень открытости проблем трансплантологии обществу (из-за недостаточного его социокультурного уровня!), малополезна, а потому необходим (до поры до времени) «максимум изоляции».
Таким образом, ОП является: с одной стороны (de-ure), необходимость консолидации и канализации усилий специалистов в развитии трансплантологии, а с другой (de-facto) – соблюдение мер предосторожности при взаимоотношении с обществом. Дело в том, что многие вопросы пересадки органов и тканей, в частности заготовка органов, создания банка органов и тканей, забор органов у пострадавших со «смертью мозга» до сих пор не решаются именно из-за неадекватного понимания обществом насущных интересов трансплантологии [302]. В такой ситуации Ю. Хабермас советует философии ограничится всесторонним анализом условий для рациональных дискурсов и переговоров, участники которых в той или иной мере найдут ответы на животрепещущие проблемы [324].
Д. Ролз же полагает, что за философией следует оставить прерогативу развития идеи справедливого общества, которая затем эпатируется в социально-политические науки [256]. В этом аспекте, нужно признать, что философия, в которой всегда сильна интегративное начало и превалирует интерес к целому, учитывает в своем содержании высокий обобщающий потенциал, должна ликвидировать: а) односторонность ценностных определений; б) неоправданные теоретические колебания; в) различного рода недопонимания прагматических наук и общественности.
На сегодня актуальны следующие ОП современной трансплантологии: с одной стороны (de-ure), основным трансплантационным материалом признается «живой орган», взятый для пересадки у живого человека (донора), а с другой (de-facto) – существует серьезный риск навредить здоровью донора при изъятии у него органа для этой пересадки. Этично ли это? Дело в том, что при пересадке органов от живого донора существует серьезный риск, связанный, во-первых, с осуществлением достаточно травматичной хирургической операции по изъятию органа, а, во-вторых, с лишением донора одного из парных органов или части органа, в ущерб его здоровья. При этом нарушается основополагающий гиппократовский принцип – «Не навреди!» [59]. Данная проблема упирается в этику ответственности. Ф. Ницше утверждает, что «ответственность многограннее совести, одного из своих моментов», что «Человек – это существо, способное к ответственности и к принятию ее на себя» [219].
М. Вебер отмечает «мы должны уяснить для себя, что всякое этически ориентированное действование может подчиняться двум фундаментально различным, непримиримо противоположным максимам: оно должно быть ориентировано либо на «этику убеждения» либо на «этику ответственности» [58]. По его мнению, когда действуют по «этике убеждения», то не держат ответ за их результаты. Когда человек поступает по максиме «этике ответственности», то «надо расплачиваться за последствия своих действий…». М. Вебер утверждает о том, что ответственность – это этический акт, взятый в единстве всех его моментов. В ракурсе сказанного, ответственность медицинских работников, которые осуществляют забор органов от донора и пересадку органа реципиенту должны быть ответственны вдвойне. В КР действует Закон «О трансплантации органов и/или тканей», где указывается на то, что пересадка органов возможно лишь от близких родственников. Между тем, как это подчеркнуто выше, при пересадке органов от живого донора – «вместо 1 больного получаем 2 больных», что, конечно же, неразумно с точки зрения оптимологии и праксиологии.
ОП является: с одной стороны (de-ure), попытка излечить больного из категории обреченных путем пересадки органов, взятого от другого человека, а с другой (de-facto) – наносится ущерб здоровью донора, у которого изымается этот орган. В итоге, вместо одного больного общество получает двух больных, а между тем, это и есть нарушение основного принципа медицины «Не навреди!». Возникает законный вопрос: почему в ситуации, когда нравственные доводы вступают в конфликт с благоразумными, мы должны отдавать предпочтение нравственным?
По Г. П. Шедровицкому – добро всегда ситуационно, следовательно, всякая личность вынуждена, оставаясь нравственной и принципиальной, строить для себя систему локальной нравственности. В этом заключается свобода его действий и поступков [346]. На этом основывается добровольность и альтруизм людей, что является важнейшим основанием для становления и развития трансплантологии. Законодательство любой страны гарантирует донору бесплатное лечение после операции для минимизации ущерба его здоровью, но на практике зачастую донор может оказаться один на один с проблемами послеоперационного здоровья [349]. В этой связи, разрешение возникших противоречий лежит в плоскости: а) тщательного анализа морально-правовой оправданности пересадки органов от живого донора; б) усиления защиты интересов донора, в том числе юридического оформления добровольной жертвы ближнему с последующей компенсацией.
Выход из проблемной ситуации, ее преодоление предполагает некую последовательность мышления, которое Г.П.Шедровицким видится так: 1) внимание методологов концентрируется на реальной предметной ситуации; 2) ситуация описывается на основе существующего разнородного знания; 3) эти знания теперь проецируются как «проекции» реальной проблемной ситуации; 4) на основе полученных данных создается модель ситуации (модель-конфигуратор); 5) на основе их разрабатываются план-карта будущих действий; 6) на основе целенаправленных действий проблемная ситуация разрешается [346]. На наш взгляд, именно по такой схеме должны найти свое разрешения ОП и проблемы трансплантологии. На наш взгляд, актуальным является призыв системодеятельностной методологии (Г.П.Щедровицкий, А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков): «совершенствуйтесь, стремитесь стать мастером ситуационной нравственности. Научитесь понимать и нормировать себя и других» [346].
Безусловно, при использовании живого донора обязательным является добровольность, альтруизм и осознанность. Однако опыт стран Индокитая свидетельствует о том, что почти закономерен фактор «наклонной плоскости» с исходом в коммерционализацию этого процесса. В этом плане, все чаще звучит мысль о том, что с точки зрения рыночных отношений правовое обеспечение «купли-продажи» органов лишь вопрос времени (!) [32]. В этом аспекте, существует ОП: с одной стороны, добровольность, альтруизм и осознанность – это обязательные принципы трансплантологии (de-ure), а с другой – возникают реальные предпосылки к нарушению этих основополагающих принципов пересадки органов (de-facto).
Следует заметить, пересадка непарных органов запрещена законом, хотя в литературе описаны случаи, когда в хирургические центры, проводящие пересадку сердца и легкие, обращались родители больных детей с предложениями пересадить от них своим детям сердце или легкие [2]. Закон не допускает того, чтобы во имя спасения одного больного (реципиента) лишить при этом жизнь другого человека (донора). Однако есть факты преступной трансплантации органов. В частности, в Китае, где в свое время сторонников учения Фалугуни, содержащихся в закрытых тюрьмах, трансплантологи использовали в качестве живых доноров непарных органов [22]. Здесь заложено еще одно ОП: с одной стороны, изъятие непарных органов от живых доноров запрещен во всем мире (de-ure), а с другой – находятся различные предлоги для осуществления этого замысла (de-facto).
Такое нарушение равновесия утвердившихся ценностей, безусловно, вновь создает ситуацию этической неопределенности [16]. Весь вопрос в том, получит ли развитие та или иная новая («вновь изобретенная») ценность (в нашем примере – негативные явления в трансплантологии в виде изъятия органов от живых доноров путем их обрекания на смерть, либо одобрение купли-продажи органов и пр.). В этом аспекте, очевидно, на атракторную территорию должны попасть лишь истинные ценности и нужно сделать все возможное для того, чтобы они получили бы устойчивое развитие, чтобы они сохранили свою доминантность на длительное время [107].
На сегодня, законодательство любой страны запрещает делать ЖВО человека предметом купли-продажи или принуждать к донорству недееспособных людей, которые не в состоянии принять решение сознательно. Между тем, есть факты, когда некоторые американские суды разрешали донорство почки ребенка несовершеннолетнего возраста его старшему брату, мотивируя это долгосрочными интересами донора. Предполагалось, что старший брат, будучи здоровым, сможет заботиться о нем, когда родители уже будут не в состоянии сделать этого [11].
Существует и другое ОП, связанное с актом добровольности и жертвенности. Общество имеет моральное право осуждать родителя, отказавшего в донорстве умирающему ребенку, но закон не может принудить его к этому, так как донорство всегда должно быть добровольным и бескорыстным шагом. Разрешение данного противоречия лежит в плоскости: а) повышения социокультурного уровня самого общества; б) незыблимости положений законодательства.
Хотелось бы отметить, что во всем мире вызывает серьезную озабоченность возрастающее количество сообщений о трансплантации человеческих органов и тканей, изъятых из тел: а) тяжелотравмированных людей со смертельным повреждением головного мозга, с разрушенным и погибшим мозгом; б) людей, находящихся в состоянии «клинической смерти» в результате самых различных (и не всегда смертельных) заболеваний; в) заключенных, приговоренных к смертной казни, без их предварительного согласия или пользуясь тем, что они не могут отказаться от этого; г) лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, чья смерть рассматривается как прекращение страданий, облегчение для окружающих и чья участь ни до, ни после смерти никого не беспокоит; д) бедных людей, которые согласны расстаться со своими органами в безвыходной ситуации крайней нужды и безденежья; детей, украденных с этой целью [59].
В связи с этим, мировая медицинская общественность определила и приняла ряд этических принципов в отношении проблем трансплантологии, согласно которых при проведении любых манипуляций, связанных с пересадкой органов от одного человека другому: 1) главной заботой врача в любой ситуации является состояние здоровья пациента; 2) ни один врач не может взять на себя ответственность за проведение операций по пересадке органа, пока не будет обеспечено соблюдение прав донора и реципиента; 3) не имеет никаких профессиональных оправданий снижение объема, интенсивности оказываемой помощи потенциальному донору; 4) совершенно необходимо полное всестороннее обсуждение ожидаемого риска и альтернативных методов лечения с донором, реципиентом; 5) подаваемые больному надежды не должны противоречить реальным перспективам и риску; 6) интересы пациента должны быть первичными при вторичности научных и профессиональных интересов; 7) купля-продажа человеческих органов для трансплантации считается недопустимой [300].
Таким образом, перед угрозой кардинального нарушения нравственных принципов трансплантологии актуальным является обеспечение не локальной, а интегративной эффективности позитивных ценностей, максимально возможное расширение ее пространственно-временных границ. В ракурсе разрешения ОП следует перечислить причины купли-продажи донорских органов: во-первых, их дефицит; во-вторых, обнищание людей, которое подталкивает их к заработку путем продажи собственных органов; в-третьих, слабое финансирование медицинских учреждений, которое побуждает их бороться за выживание путем коммерциализации своей деятельности [344].
При купле-продажи органов тело человека приравнивается к товару, а между тем это разрушает его особый социальный статус. Разрешение торговли органами усилит социальную несправедливость – богатый, будет выживать за счет бедного, а между тем, эта форма эксплуатации человека человеком, дестабилизирующая общественные нравы и общественную жизнь [329]. Следует отметить, что коммерционализация в трансплантологии приобретает зловещий оборот. Здесь уместно привести мысль К. Маркса о том, что обладатель капитала, если он ожидает сверхприбыль от реализации услуг или продукта, то он готов рисковать головой [200].
Надо полагать, считают ряд авторов, купля-продажа органов и тканей для пересадки будет процветать и, возможно, даже найдет со временем в условиях тотального рынка свое правовое обеспечение и оправданность (!). В указанном аспекте, нужно признать, что всякий экономизм, придавая этике сугубо экономическое содержание, противодействует социально-философскому осмыслению проблем. Между тем, задачей философии является тщательная интерпретация и моральная оценка прагматических притязаний. В этом заключается суть концептуальной навигационной установки социологической этики для нынешней медицины [23,301].
На наш взгляд, разрешение ОП находится на линии задач государства и общества поставить весь этот рынок органов и тканей на реальную твердую правовую основу: во-первых, эффективно контролировать запрет коммерциализации; во-вторых, усилить финансирование здравоохранения; в-третьих, усилить механизмы социальной защиты населения. Чего ждать от философии? Изобретать ценности, адекватные новым реалиям – ответил бы философ. В данном случае, речь идет о наращивании эффективности ценностей. Между тем, истинная эффективность – это не эффективность «здесь», «теперь», «на глазок» в угоду узкого круга лиц, а это поступки и поведения людей на базе максимизированных аксиологических оценок [285]. В этом аспекте, основу для выверки социальных действий должны составить принципы, как социологической этики, так и конкретно-научной этики (в нашем примере – этики трансплантологии).
Существуют ОП и при пересадке трупных органов: с одной стороны, посягательство на труп человека – это не позволительно и все мировые религии запрещают любое нанесение повреждений телу умершего, как факт оскорбления памяти человека (de-ure), а с другой – органы трупа являются самыми доступными материалами для трансплантации (de-facto). М. Шелер (1874—1928) считает, что «моральность человека – это, прежде всего, порядок, логика любви и сердца, соподчиненность ценностей» [341]. По его мнению, «более высокая ценность» дает и более глубокое удовлетворение. В этике М. Шелера высшими принципами являются не свобода и солидарность, а стремление людей к идеальному и совершенному. По-прежнему актуален его призыв: «Уделяйте первостепенное внимание самым возвышенным ценностям, ибо, они наиглавнейшие» [273].
При использовании органов от трупа возникают следующие проблемы: во-первых, моральные принципы процедуры забора органов (презумпция согласия); во-вторых, справедливость в распределении между реципиентами дефицитных ресурсов трансплантации; в-третьих, проблемы торговли органами и тканями. Проблема заготовки органов от трупа для КР и других стран Центральной Азии, в силу соответствующего менталитета народов, населяющих эти страны, является особенно трудной [22]. На западе уже давно юридически оформляют прижизненное согласие человека на донорство после смерти. Между тем, даже в такой «просвещенной и продвинутой» стране, как США согласные на органное донорство составляет всего 10—20% от общего числа информируемых по этому вопросу [321].
Важна успешная реализация механизма информационного согласия в этом вопросе. В противном случае нарушается принцип «Не укради!». Здесь заложено еще одно ОП: с одной стороны, любое развитое государство, считающий себя поборником закона не должен допускать нарушение прав человека – ни живого, ни мертвого (de-ure), а с другой – это государство взяла на себя обязательство сохранить жизнь и заботиться о здоровье своих граждан, в том числе путем пересадки органов, взятого от живого человека или трупа (de-ure и de-facto). В такой ситуации приобретает важное значение дискурсивное решение, как итог некоторого процесса «обкатки» тех или иных идей и предложений. По мнению Ф. Хабермаса, наиглавнейшая ценность коммуникативной этики – это выработка коммуникативной ответственности. По автору – это целесообразность, благо и справедливость [326].
Существует и следующее ОП, касающейся деятельности государства и его здравоохранительной политики. С одной стороны, гарантия государственной заботы о здоровье граждан прописана в Конституции страны, в Законах о медицине и здравоохранении, о трансплантации органов (тканей) без частных детализаций (de-ure), а с другой – детальный порядок заготовки органов и тканей для пересадки прописана в подзаконных актах ведомства здравоохранения (de-facto) [22]. Получается, что при рутинном заборе органов и тканей не государство, а, к сожалению, медики «крадут» орган у трупа. Потому, согласно «принципа презумпции согласия» и «принципа презумпции несогласия» морально-этический стандарт трансплантологической практики, как это было изложено выше, должен быть закреплен в законе государства, а не в ведомственных предписаниях Министерства здравоохранения, то есть должна нести ответственность не здравоохранительное ведомство, а государство (de-ure и de-facto).
Ф. Хабермас считает, что именно коммуникативная этика дает критерии формирования права и политики, путей выработки политико-правовых суждений. На наш взгляд, консенсус между вызовами трансплантационной практики, интересами людей и возможностями государства по реализации тех или иных запросов здравоохранения должны быть дискурсивными [325]. По Ф. Хабермасу «Дискурсивный консенсус – это торжество рациональности, в котором участвуют достойные ценности, это фиксация согласованности тщательно обоснованных аргументов» [326]. Для становления и развития трансплантологии актуальным является призыв дискурсивно-коммуникативной этики: «Ставьте своей целью достижение коммуникативного согласия», не подменяйте философскую этику правом» [325].
Девиз органного донорства в трансплантологии звучит оптимистично: «Уходя из этой жизни, не забирай с собой органы. Они нужны нам здесь» [329]. Такой призыв не что иное, как прескрипция, а не моральное суждение. Обращено оно к человеку, который естественно ценить свою жизнь и пока не думает о смерти. В этом случае данная прескрипция не укрепляет, а, наоборот, разрушает нравственность.



