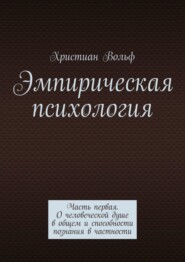
Полная версия:
Эмпирическая психология. Часть первая. О человеческой душе в общем и способности познания в частности
Таким образом, благодаря структуре органа возможно, что от определенного объекта возникает аналогичное изменение, как в глазу формируется изображение, если этот объект в определенной позиции против глаза излучает на него световые лучи; так и через сущность души возможно, что в ней возникает определенное ощущение, благодаря которому объект представляется подобным образом. Когда изменение в органе действительно происходит, ощущение также возникает в душе, и не может быть ничего другого, кроме этого, что могло бы сосуществовать с ним. Почему именно это ощущение, а не другое, может сосуществовать, и как это возможно, мы в конечном итоге исследуем в рамках рациональной психологии.
Глава III. О воображении
§. 91. Воспроизведение идей объектов, воспринимаемых чувствами.
Наш ум способен воспроизводить идеи объектов, которые мы воспринимаем через чувства, даже если они отсутствуют. Если душа что-то восприняла с помощью чувств, она может создавать образы этих восприятий, даже когда объекты не находятся рядом. Это подтверждается нашим опытом: нет ни одного момента, когда мы не представляли бы себе отсутствующее в соответствии с тем, что мы видим и чувствуем. Например, когда мы находимся в храме, мы можем вообразить дом так, как будто смотрим на него снаружи, даже если наши глаза не фиксируют никаких изменений, от которых зависит восприятие храма (§. 90), следовательно, он отсутствует для нас (§. 63). Тем не менее, это воспроизведение, при котором храм представляется нам как бы находящимся вне нас, даже если его нет, является идеей храма (§. 48), и храм, который можно увидеть, таким образом, является объектом, воспринимаемым чувствами (§. 77). Таким образом, душа может воспроизводить идею объекта, который ранее был воспринят через чувства. Таким же образом можно собрать информацию из любого другого примера. Пропозиция, на самом деле, представляет собой универсальное утверждение, которое содержится в любом конкретном примере или частном случае. Важно отметить тот метод, с помощью которого в подобной ситуации универсальное, скрытое в конкретных примерах, отделяется от тех же самых понятий, которые были ранее усвоены. Это дает нам явные преимущества в развитии способности видеть абстрактное в конкретных случаях, о чем мы будем говорить позже. Мы не предлагаем ничего, что не могло бы принести пользы в отдельности, и не будем углубляться в очевидные вещи без достаточных оснований. Мы сами, конечно, испытали, почему важно заниматься изучением явных вещей, если вы готовы приложить максимум усилий и остроту ума к размышлениям. Никто не поверит в это, пока не испытает на собственном опыте. Тем не менее, тот, кто в конечном итоге пройдет через этот опыт, почувствует то же самое, что и тот, кто размышляет о явных вещах подобным образом. Неосведомленные математики, чьи недостатки в понимании понятий компенсируются формой, а порой неясные идеи становятся более понятными благодаря успешным вычислениям. Все остальные ученые, которые далеки от точного анализа, также остаются в неведении. Поэтому мы не будем задерживаться на суждениях, которые не приносят нам никакой пользы. Мы считаем целесообразным иногда напоминать о таких вещах, которые должны вдохновить нас, философствующих, на продолжение усердной работы.
§. 92. Определение воображения.
Способность создавать восприятия вещей, которые воспринимаются чувствами, в их отсутствии. Эта способность называется воображением. Душа, таким образом, может воспроизводить идеи отсутствующих объектов (§. 91). Душе присуща способность воображать, то есть воображение. Таким образом, мы подчеркиваем, что реальность воображения должна быть вынесена на поверхность. У Аристотеля воображение также часто называют Фантазией. У Тширнхауфена термин «Воображение» используется в более широком смысле, включая способность чувствовать. Воображение, безусловно, это то же самое, что и верхняя часть познавательной способности, о которой мы говорили ранее (§. 55). Однако значение этого термина настолько обширно, что, как он сам отмечает в части 2. §. 2. стр. 41, это дает основание для наименования, что эти способности, хотя и различны, имеют нечто общее: их действия чаще всего представлены нам в виде образов. Мы подчеркиваем это, чтобы избежать путаницы при чтении книги Тширнхауфена.
§. 93. Определение фантома.
Фантомом мы называем идею, возникшую в результате воображения. Аристотелики, однако, используют термин «фантом» не совсем в том же смысле; для нас же достаточно, чтобы этот термин удобно обозначал идеи, возникающие из воображения. Как отмечает Гоклениус в своем Философском словаре, определение фантома также может относиться к образу какой-либо вещи, воспринятой через чувства и оставленной в нашем сознании; в то время как фантом используется для обозначения способности к воображению (см. §. 92); более удобно ограничить понятие фантома идеями, созданными воображением. Поскольку аристотелики в своих учениях о человеческом уме не всегда четко разделяли то, что должно быть различимо, никто не упрекнет нас, если мы придадим определенные и фиксированные значения словам, стремясь к точному пониманию души.
§. 94. Как легче всего представить
Когда мы что-то воспринимаем ясно с помощью наших чувств, нам легче и понятнее это представить, чем то, что мы воспринимаем неясно. Более того, если мы что-то представляем, то это будет менее ясно, чем если мы воспринимаем это с помощью чувств. Например, когда мы пытаемся представить лицо солнца, мы хорошо представляем его форму и размер, и это довольно ясно. Однако представить свет солнца нам почти не удается, так как ясность, которую мы ощущаем, отсутствует, когда мы воспринимаем его через чувства. В фигуре солнца мы можем различить множество деталей, и также можем соотнести размеры, как, например, диаметр солнечного диска с высотой воспринимаемых объектов, а площадь, заключенная в периметре, с другими плоскими поверхностями. Мы четко воспринимаем форму и размер (§. 38). Однако, поскольку в свете солнца невозможно отделить множество различных понятий, мы воспринимаем свет только неясно (§. 39).
Мы хорошо различаем форму и размер фантома листа, который воспринимают другие, и благодаря этому можем распознать его фигуру; восприятие фантома листа является ясным (§. 31). В то же время фантом света настолько неясен, что из этой темноты ты не можешь распознать свет, и даже если он будет освещен какой-либо яркостью, этого недостаточно, чтобы распознать свет листа; ты скорее осознаешь, что они значительно различаются. Восприятие солнечного фантома света бывает либо совершенно темным (§. 32), либо, по крайней мере, менее ясным (§. 31). Таким образом, очевидно, что мы можем легче и яснее представить то, что воспринимается четко, чем то, что воспринимается смутно; и если мы что-то воображаем, то это воображение будет менее ясным, чем то, что воспринимается чувствами. Не лишним будет, если, обратившись к другим примерам, ты извлечешь из этого данное утверждение. Однако, поскольку примеры очевидны, нет необходимости приводить больше. Полезность данного утверждения станет ясна в последующих разделах; однако в области морали она иногда проявляется более явно. Кроме того, стоит отметить, что способ вывода универсальных понятий из частных случаев, который мы применяем при формулировании предложений на основе опыта, эквивалентен более сложным доказательствам, применяемым к конкретным случаям. Такие примеры часто встречаются в математике, и их не может не знать тот, кто хоть немного изучал эту дисциплину. Важно отметить одно, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу: легко ли нам что-то сделать или трудно представить – это становится очевидным, когда мы осознаем усилия, которые прилагаем для воображения. В приведенном примере появляется солнечное фантомное изображение, которое, как будто по зову, мгновенно проявляется в форме и размере. Однако, когда мы пытаемся представить свет, мы осознаем, что повторяем неудачные попытки, и таким образом приходим к пониманию этой импотенции (замечание §. 39).
§. 95. Что такое чувственные идеи.
Чувственными идеями я называю те, которые возникают в нашем сознании в результате ощущений, или те, которые в данный момент находятся в нашем сознании, когда происходит изменение в сенсорном органе. Также можно сказать, что это те идеи, которые порождаются ощущениями в нашей душе. Например, когда мы видим солнце, идея солнца, благодаря которой мы его воспринимаем, зависит от нашего зрения, и поэтому существует в нас, поскольку лучи от солнца, попадая в глаз, вызывают определенные изменения в органах зрения; таким образом, эта идея называется чувственной. Аналогично, мы воспринимаем звук трубы, потому что он вызывает изменения в нашем слуховом аппарате; идея звука также является чувственной. То же самое можно сказать и о других идеях, которые возникают в ответ на изменения в других сенсорных органах. Эти чувственные идеи противопоставляются фантазмам, которые возникают в результате воображения (§. 93): причины их различия станут ясны в дальнейших рассуждениях, и их значимость в моральных вопросах также станет очевидной.
§. 96. Различие между фантомами и чувственными идеями. Фантомы менее ясны, чем чувственные идеи. Если мы воспринимаем что-то нечетко через чувства, это не влияет на его ясность (§. 39), как, например, с фантомом света и цветов; если мы это воображаем, то представляем себе это менее ясно, чем если воспринимаем через чувства (§. 94). Поэтому объекты, воспринимаемые чувствами, всегда должны восприниматься нечетко, как, например, видимые цвета (см. §. 39); если мы воображаем какое-либо чувственное восприятие, оно должно быть менее ясным, чем если мы воспринимаем его через чувства. Действительно, идея, возникающая через чувства, является чувственной идеей (§. 95); фантом же – это идея, которая создается воображением (§. 93). Таким образом, ясно, что фантомы имеют меньшую ясность, чем чувственные идеи.
Примером служит идея феноменальных образов и фантомов, которые, имея две восприятия, различаются по степени яркости – это ощущение знакомо каждому из нас. Мы хорошо различаем степени яркости, но в этих случаях не можем четко определить что-либо конкретное, поэтому воспринимаем их лишь смутно. Таким образом, если существуют два цвета, один из которых ярче другого, это очевидно; но откуда нам знать, что один цвет ярче, а другой – менее яркий? Мы не осознаем этого, и не можем выразить свои мысли.
§. 97. Как различать фантомы и сенсуальные идеи.
Поскольку фантомы и сенсуальные идеи различаются по степени яркости (§. 96), мы можем отличать их друг от друга. Следовательно, если фантомы и сенсуальные идеи сосуществуют в нашей душе, мы можем их различать. Опыт подтверждает это утверждение. Каждый из нас осознает, что отлично различает фантомы и сенсуальные идеи, и поэтому никогда не возникает опасности спутать то, что мы воображаем, с тем, что мы чувствуем, пока мы одновременно чувствуем и воображаем: это происходит с нами, когда мы бодрствуем.
§. 98. Эквивалентность актов воображения и ощущений.
Акты воображения можно сравнить с более слабыми ощущениями. Слабее всего ощущение, обладающее меньшей степенью ясности (§. 75). Поэтому, когда образы, создаваемые воображением, менее ясны, чем сенсорные идеи (§. 96), они, тем не менее, возникают благодаря силе воображения (§. 93), а ощущения являются результатом восприятия (§. 95); акт воображения имеет меньшую степень ясности по сравнению с ощущением. Поскольку мы можем воображать ощущения (§. 92), то то, что воспринимается чувствами, эквивалентно (§. 77). Опыт показывает, что ощущения воспринимаются яснее при ярком свете, чем при более тусклом; акты воображения эквивалентны более слабым ощущениям.
Этот факт подтверждается нашим опытом. Действительно, если мы видим всадника на расстоянии в темноте ночи, его силуэт выглядит менее ярким, чем если бы мы смотрели на него при дневном свете с того же расстояния. Мы наблюдаем нечто подобное, когда рассматриваем один и тот же объект при дневном и лунном свете в разные моменты времени, если расстояние от глаза в предыдущем случае было достаточным, чтобы вызвать такую разницу в восприятии. Однако сейчас не следует углубляться в то, как именно должно определяться это расстояние.
§. 99. Обскурация воображения через ощущения затмевает наши воображаемые акты, так что мы их вовсе не осознаем.
Акт воображения сопоставим с более слабыми ощущениями (§. 98). Таким образом, сильное ощущение затмевает слабое, и мы полностью теряем осознание более слабого (§. 76); ощущения, которые сопутствуют актам воображения, должны затмевать их, так что мы не можем их воспринять. Это происходит в нашей душе, когда появляются фантомы, о которых мы, однако, совершенно не знаем; в следующих частях это станет ясным. Поэтому необходимо будет выяснить, как скрытые фантомы могут быть выявлены, чтобы мы смогли осознать их, даже если ранее не знали о них.
§. 100. Слабые ощущения становятся более четкими, когда сильные отсутствуют.
Опыты показывают, что слабые ощущения становятся яснее в отсутствие более сильных. Например, когда Луна светит ночью, объекты, освещенные ее слабым светом, начинают сверкать, и мы воспринимаем лунный свет гораздо ярче, чем днем, когда он бледнеет, как облачко. Мы воспринимаем солнечный свет намного ярче, чем лунный, что делает первое ощущение более сильным, а второе – слабым (§. 75). Когда, следовательно, Солнце больше не видно, а только Луна попадает в поле зрения, находясь под скрытым горизонтом, так что свет из этого источника не достигает нас; сильное ощущение скрывается, остается лишь слабое. В результате лунный свет воспринимается гораздо ярче, чем раньше, так как Луна уже не выглядит бледной, как облачко, и слабое ощущение становится более четким при отсутствии сильного. Ясно, что причина затемнения исчезает (§. 76), поэтому слабое ощущение не затемняется. Оно сохраняет свою ясность.
§. 101. Акт воображения, когда он становится более ясным.
Если акт воображения является единственным, он оказывается более ясным, чем сопутствующие ощущения. Поскольку акт воображения эквивалентен более слабым ощущениям (§. 98); если акт воображения единственный в душе, при отсутствии всех ощущений, это похоже на ситуацию, когда присутствует лишь более слабое ощущение, особенно когда более сильные отсутствуют. Действительно, более слабые ощущения становятся более ясными, когда отсутствуют более сильные (§. 100). Следовательно, акты воображения должны быть более ясными, если они единственные, чем если они сопутствуют ощущениям.
Это также подтверждается последующими наблюдениями. В сновидении ощущения прекращаются, и в душе остаются только акты воображения. В этом случае, действительно, последующие акты становятся более ясными, чем когда мы бодрствуем, когда у нас есть фантомы вместо чувственных идей, полагая, что мы бодрствуем, когда находимся в состоянии сна, и на самом деле происходит то, что лишь кажется.
§. 102. Особые случаи.
Акты воображения становятся более ясными, когда они происходят сами по себе, чем когда они связаны с ощущениями (§. 101). Высшие акты воображения проявляются особенно ясно в темноте и когда мы закрываем глаза, а также в отсутствие других объектов, которые воздействуют на наши сенсорные органы.
Эта идея соответствует общему представлению: для того чтобы достичь ясности образа, мы закрываем глаза и исключаем другие объекты из контакта с нашими чувствами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Рукопись, опубликованная Генрихом Вуттке под названием: «Христиан Вольф», содержит только примечания Вольфа к небольшой рукописи Банмейстера: Vita fata et scripta Christiaui Wolfii Philosophi, которую он предоставил ему для использования в новом издании. См. переписку Вольфа с мэром Гелером и ректором Банмейстером, приложенную к рукописи.
2
Ср. Wuttke, p. 114.
3
Ibid., p. 112.
4
31 мая 1715 года Вольф пишет Гелеру: «По этому случаю я осведомился о вашем процветании и в то же время хотел бы сообщить вам, каким путем моя недавняя посылка профессору Полену попала в Бресслау, поскольку я очень хочу, чтобы она не потерялась».
5
Ср. сообщения Бернда в его собственной биографии. Лейпциг, 1738.
6
«Хотя я знал, – пишет он в письме к Хауде, в котором рассказывает о препятствиях, мешавших его работе в Бреслау (от 1 нояб. 1739 г.), – что он препятствует моему продвижению по службе в моем отечестве, я нисколько не утратил уважения, которое питал к нему с детства, но, поскольку я узнал от него много хорошего, я также следовал его советам в моей учебе, которые направили меня на правильный путь, и я также сохраню свою благодарность к нему невредимой и не напишу о нем ничего неблагоприятного, но все, что служит к его славе, образцы чего уже можно найти в моих сочинениях». S. Büsching: Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen etc. I. Part. Halle 1783.
7
Ende 1689. S. Guhrauer: Leben und Verdienste Kaspar Neumanns etc. Schlesische Provinzialblätter. N. F. 2. Bd. Glogau 1863. S. 7—17. 141—151, 202—209, 263—272.
8
Näheres s. bei Dr. J. Grätzer: Edinnnd Hailey und Kaspar Neumann. Breslau 1883.
9
S. S. 10 Anm. 1.
10
Vorrede zu Süssmilch: Von der göttlichen Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts. Halle 1741. Kleine Sehr., S. 93.
11
Vergl. Wuttke, S. 139 und Ausführl. Nachricht von seinen Schriften etc. Frankfurt 1726. S. 117 u. 392.
12
Vergi. Wuttke, S. 120.
13
Vergi. Ausführl. Nachricht. S. 392. Ratio praelectionum. 2. Aufl., S. 189.
14
Это относится к шестому следствию из диссертации de algo-rithmo intinitesimali etc: Recte Hugenius in Cosmotheoro p. 14, omnes, inquit, Astronomi, nisi tardiores sint ingenio, aut hominum imperio obnoxiam credulitatem habeant, motum Telluris locumque inter planetas absque dubitatione decernunt. Melet. I, P. 289.
15
О ссоре с Нойманом см. вышеупомянутое письмо к Хауде от 1 ноября 1739 г. и сведения в биографии самого Бернда. Vergi. p. 9, примечания 1 и 2.
16
Corollarium 10 диссертации: Methodus serierum infinitarum: «Cum scriptura sacra phaenomena rerum naturalium tantum recenseat, nonvero resolvat; quaestiones ad historiam naturalem spectantes, ubi eas attingis, inde quidem decidi possunt, nequaquam tamen quae pertinent ad scientiam naturalem». Melet. I, S. 319.
17
Лейпциг, 5 мая 1706 г., Gerh. p. 54, « … Corollarium ultimum in eorum gratiam adjeci, qui Scripturam sacram interpretaturi non in notiones Spiritus inquirunt et ex earum consideratione emenda eruunt, sed praejudicia propria pro conclusionibus venditant, et acquisitam aliunde notitiam in Scripturam inferunt, atque in eos, qui ipsorum placitis adversa statuunt, impetuose invehuntur…» Примечателен ответ Лейбница на этот отрывок в его следующем письме: Gerh. p. 57. «Haud dubie autores sacri locuti suut de motu Astrorum, ut nos loqueremur in Historia quantumvis C’opernicani. Interim nec eorum diligentiam aspernor, qui iu ipsa sacra scriptura interioris doctrinae vestigia vestigant».
18
В 1709 году, когда он подал прошение о получении теологической профессуры в Хельмштадте. Ср. письма Лейбницу от 5 и 8 мая и 19 июня 1709 года.
19
Ср. Wolff in Entdeckung der wahren Ursache von der wunderbaren Vermehrung des Getreides etc. Halle 1718. Halle 1718. III §1.. поскольку я рассматривал искусство арифметики как отдельную часть искусства изобретения и изучал математику вначале не с иным намерением, кроме как для того, чтобы таким образом научиться максимам рассуждения, я с самого начала подумал, как я мог бы также использовать максимы арифметики внешне в познании Бога, души и природы».
20
Ueber Wolfis Stellung zu Tschirnhausen erfahren wir genaueres von ihm seihst in der Ratio pralect. phil. cap. II.
21
Ebenda, §20.
22
Wuttke. S. 125 ff.
23
Vergl, den Brief Wolffs vom 30. Dezember 1705. Gerh. S. 52. ,.Consilium de non anxie conquirendis Artis inveniendi praeceptis generalibus perplacet.»
24
Wuttke, S. 139 f.
25
Ebenda S. 116. Anm. 1.
26
Es ist das dritte Corollarium der angeführten Dissertation.
27
Aus dem ungedruckten Briefwechsel Leibnizens mit Otto Mencke in Hannover.
28
S. ebenda.
29
Wölfische Philosophie II, S. 184..
30
Philosophische Schriften, herausgegeben von Gerhardt, Bd. III. S. 619.
31
Recueil de diverses pieces sur la philosophie etc. par M. Leibniz
etc. Amsterdam 1720. II, S. 161.
32
Philos. Schriften, herausgegeben von Gerhardt, III, S. 616.
33
Briefwechsel, S. 159.
34
Philos. Schriften, herausgegeben von Gerhardt, III, S. 627.
35
Vergi, den Brief Wolffs vom 8. November 1710. Gerhardt. S. 128.
36
Мелет II, с. 15: Никто не заслуживал большей похвалы за свои достижения в механике, чем Лейбниц, которого мы почитаем с благоговением, как дарованного нам божественным провидением. Он открыл нам внутренние пути к изучению геометрии, природы и искусства. Лейбниц не только в журнале Acta Eruditorum Lipsiensia подробно описал истинные сопротивления твердых тел, сопротивления сред и движение тяжелых объектов в сопротивляющейся среде, но и представил новое понятие силы, которое до сих пор оставалось неизвестным. Он также разработал истинный метод оценки движущих сил. Кроме того, он блестящим образом исследовал законы столкновения тел и хочет поделиться некоторыми из них с обществом, хотя они до сих пор не были опубликованы.
37
von Benno Erdmann im Archiv für Geschichte der Philosophie. IV, S, 313.
38
С. 8 Примечание: «Вольф не говорит ни слова о том, что свою диссертацию: de algorithmo infinitesimali differentiali он посвятил Лейбницу».
39
H, §9
40
Deutschland ini 18. Jahrhundert. II. 2. Aufl. Leipzig 1880. S. 394—420.
41
Письмо Лейбница от 8 декабря 1705 года, Gerhardt, p. 51.
42
Wuttke, p. 142: «Господин фон Лейбниц хотел, чтобы я последовал примеру Бернулли II и сосредоточился исключительно на высшей геометрии и решил его calculum differentialem…»…»
43
«В Германии, – писал он Бернулли 6 июня 1710 года (Gerh. L’s math. Schrift. I, 3. b. p. 851), – nostra nemo fere profundiorem Geometriam satis intelligit. Wolfius, etsi in ea mediocris, caeteris praestat».
44
Герхардт не стал печатать в своем издании обсуждение этих и более поздних обращений, а также почти все биографические сведения из переписки, поскольку они не являются существенными, и поэтому основывает изложение здесь на рукописях.
45
A. a. 0., p. 11.
46
Ср. письмо Лейбница к Вольфу от 10 апреля 1708 г., Gerhardt, p. 90 f.
47
«CI. Вольф, – пишет Лейбниц Менке, – praeclare in studiis mathematicis versatus est, sed cum mihi nota sint, quae multis annis in Mathesis illa reconditione sunt gesta, suasi ei, ut mecum communicaret recensiones talium suas.» (пер.: " Он прекрасно разбирался в математических исследованиях, но так как мне известны события, происходившие на протяжении многих лет в этой области математической реконструкции, я предложил ему поделиться своими рецензиями на подобные работы.») Концепция по письму Менке от 10 января 1708 г. Bl 4 d. Переписка.



