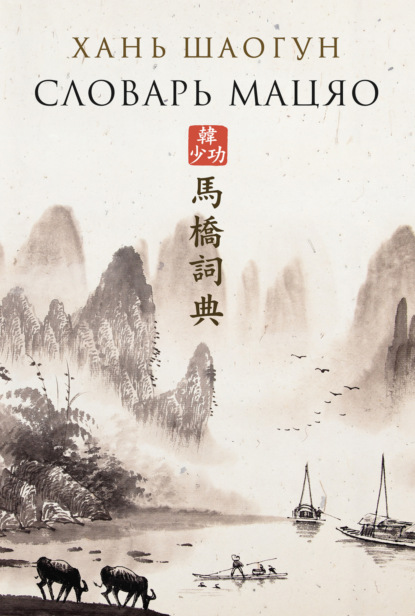
Полная версия:
Словарь Мацяо
Но память и воображение даны мне не только для воспроизведения традиции.
Поэтому меня так тянет выйти за пределы узкой сюжетной колеи, отвлечься на детали, которые поначалу могут показаться лишенными всякого значения: например, понаблюдать за случайным камнем, описать одинокую звезду, изучить ничем не примечательный дождливый день или во всех подробностях рассмотреть спину случайного незнакомца. Или хотя бы написать главу о дереве. В Мацяо, как я ее себе представляю, растет хотя бы одно большое дерево, и я должен вырастить это дерево – нет, даже два дерева – два больших клена на страницах моей рукописи и поселить в нижнем гуне Мацяо, на склоне горы позади дома дядюшки Ло. Один в высоту будет больше восьми чжанов[44], другой дорастет до шести чжанов, по дороге в Мацяо вы издалека увидите, как макушки бесовых кленов вонзаются в небо, деля его на отрезки.
Составить жизнеописания двух старых кленов – что может быть лучше.
Деревня без старого дерева похожа на дом без родителей или на голову без глаз – с какой стороны ни посмотри, такой деревне будто не хватает сердцевины. И сердцевиной Мацяо были два старых клена. Все мацяоские пащенята когда-то вдыхали шелест их листвы, с молоком матери вбирали пение цикад в их кронах и хотя бы однажды разглядывали пугающие картины в причудливых очертаниях наростов на их коре. Бесовы клены не нуждались в догляде, и в хорошие времена деревенские о них даже не вспоминали, а если и вспоминали, старались обходить стороной. Зато клены охотно принимали под свою сень людей одиноких, шелестом листвы омывали их тоску, и из россыпи серебра, просеянной сквозь густые кроны, которое то плясало под ногами, то разбегалось в разные стороны, то струилось по земле, то возвращалось к своему истоку, сотворяли ясные, безоблачные сны.
Уже не дознаться, кто и когда посадил эти клены, деревенские старики ничего толком не рассказывали. А бесовыми их прозвали много лет назад, когда весь лес на горе погиб от страшного пожара, и только два клена остались невредимы – им даже листьев не обожгло. С той поры деревенские взирали на бесовы клены со всё возрастающим трепетом, а легенды о них множились день ото дня. Рассказывали, будто узлы и наросты на их коре напоминают силуэты людей – в ненастную погоду силуэты вырастают сразу на несколько чи, но, завидев человека, принимают прежние размеры. Ма Мин рассказывал совсем уж невероятные вещи: будто бы однажды он прилег отдохнуть под меньшим кленом, шляпу доули повесил на кленовый сук. Проснулся среди ночи от раскатов грома, посветил фонариком – а шляпа уже на макушке клена. Разве не чудеса?
Еще Ма Мин рассказывал, будто в молодости учился на художника. Однажды он решил зарисовать два старых клена, но после на три дня слег с лихорадкой, а правая рука так разболелась и опухла, что больше он к ним не подступался.
Если клены даже нарисовать не удавалось, в деревне и речи быть не могло о том, чтобы их спилить. И они росли все выше и выше, притягивая взгляды путников за несколько десятков ли. Правда, деревенские могли срубить кленовую ветку, обмотать ее красной тряпкой и повесить на ворота, чтобы отгонять злых духов, или вырезать из нее молитвенный барабанчик муюй[45] – говорили, такие обереги творят настоящие чудеса. Как-то раз начальство коммуны привлекло меня к проектированию ирригационных сооружений и отправило в уездный центр, чтобы скопировать там нужные карты и чертежи. Со мной поехал школьный учитель по фамилии Фань. И в засыпанном пылью архиве уездного управления водного хозяйства мы выяснили, что после 1949 года никто не занимался картографированием нашей местности, а все проектные работы выполнялись по военным картам, оставшимся от японцев. Эти черно-белые карты с масштабом 1:5000 были достойны самого Чжугэ Ляна[46], план одной небольшой коммуны занимал на них целое полотно. Высота отсчитывалась не от уровня моря, а от фундамента крепостной стены в районе Сяоумэнь[47]. Говорили, японцы заказали эти карты кому-то из предателей еще до начала войны, и тут поневоле восхитишься тем, насколько обстоятельно они готовились к наступлению.
И даже на старой японской карте в глаза сразу бросались два мацяоских клена – японцы специально обвели их красным карандашом. Учитель Фань со знающим видом сказал, что так они отмечали знаки воздушной навигации.
И я вспомнил, что мацяосцы в самом деле встречались с японскими самолетами. Бэньи рассказывал, что, когда это чудище впервые полетело над деревней, его старший дядька принял самолет за огромную птицу и закричал детям, чтобы насыпали во дворе зерна, а соседям велел тащить веревки – подманим ее и будем вязать!
Самолет не снижался, и дядька Бэньи закричал в небо:
– Гляди, долетаешься у меня! Долетаешься!
Только Оглобля Си догадался, что это не птица, а японский самолет, который летит на бомбежку. Но Оглобля через слово нес глухомань, поэтому его предостережений никто не разобрал. А дядька Бэньи рассуждал так: говорят ведь, что японцы – коротышки, откуда у них возьмутся такие большие птицы? Деревенские прождали птицу целый день, но она так и не спустилась клевать их зерно. А когда на другой день полетела в обратную сторону, еще и обгадила деревню бомбами – грохот стоял такой, что горы качались. Дядьку Бэньи убило взрывом, снаряд оторвал ему челюсть и забросил на дерево, как будто дядька решил отхватить кусок от птичьего гнезда на ветке. Бэньи так и остался туговат на ухо – может, сказалась контузия, а может, испуг при виде залетевшей на дерево челюсти.
Во время той бомбежки погибло трое деревенских, а если считать отложенный взрыв, которым спустя тридцать лет убило маленького Сюнши (см. статью «Сокровище»), то всего погибших было четверо.
Можно посмотреть на эту историю под таким углом: если бы не бесовы клены, стали бы японские самолеты летать над Мацяо? Стали бы сбрасывать бомбы? В конце концов, вряд ли японцев могла всерьез заинтересовать какая-то горная деревушка. Без отмеченных на карте кленов японцы не полетели бы над Мацяо, не увидели, как внизу кричит и улюлюкает толпа деревенских, и приберегли бы эти бомбы для кого-нибудь поважнее.
Все случилось из-за двух кленов: четыре смерти и все истории, последовавшие за ними.
С той поры бесовы клены облюбовали окрестные вороны, и густые кроны то и дело взрывались хлопающей чернотой. Ворон пытались отвадить, бегали за ними с факелами, разоряли гнезда, но зловещие птицы упрямо возвращались и вновь разбивали свой лагерь на кленовых верхушках.
Из года в год Мацяо оглашал вороний грай. Говорили, на ветвях бесовых кленов в разное время повесились три женщины. Я почти ничего о них не знаю, слышал только, что одна покойница сначала отравила мужа, а после пришла к бесовым кленам и повесилась. Было это очень давно.
Я проходил мимо бесовых кленов, как мимо любых других деревьев, трав или камней, не обращая на них особого внимания. Я никогда не думал: вот они – создания, укрывшиеся в складках времени, мы даже не представляем, на что они способны, их ветви и листья копят в себе опасность, чтобы однажды она с грохотом прорвалась наружу и вынесла кому-то очередной приговор.
Иногда я думаю, что деревья отличаются друг от друга точно так же, как и люди. Гитлер тоже был представитель рода людского. И попадись он для изучения какому-нибудь инопланетянину, тот полистал бы свой инопланетный справочник и по внешним чертам, по способности к прямохождению и умению регулярно обмениваться звуками с представителями своего вида определил того как человека. И был бы прав. Найденные археологами дощечки ханьского времени с «Чускими строфами»[48] – это книга. И попади ханьские дощечки в руки какому-нибудь израильскому ученому, не владеющему китайским языком, при наличии достаточной эрудиции и сообразительности он смог бы установить, что перед ним китайская книга, просто опираясь на начертание иероглифов, материал дощечек и место их обнаружения. И тоже был бы прав. Но много ли проку в этих «правдах»?
И если мы скажем, что бесовы клены являются деревьями и относятся к роду Acer, много ли проку будет в этой истине?
У дерева нет сознания и свободы, присущих человеку, но подчас оно занимает не последнее место в запутанной сети причин и следствий, составляющих нашу жизнь. В таком случае одно дерево подчас может так же разительно отличаться от другого, как Гитлер отличался от Ганди, как «Чуские строфы» отличаются от инструкции к электробритве. И даже если мы вызубрим целый свод ботанических справочников, чтобы изучить какое-нибудь ничем не примечательное дерево, это окажется только началом нашего знакомства.
Два старых клена погибли в начале лета 1972 года, меня тогда в деревне не было. На обратном пути я издалека заметил, что в очертаниях горизонта чего-то не хватает, даже решил поначалу, что забрел не туда. Деревня тоже переменилась, дома будто вышли из сумрака, улицы купались в слепящем свете. Вот оно что – тень от кленов пропала. По деревне расплывался запах древесного сока, дорога была присыпана толстым слоем стружки и опилок, тут же лежали груды веток, увитые паутиной и птичьими гнездами, и никто не тащил их домой на растопку, а вздыбившаяся валами земля подсказывала, что недавно на этом месте происходила ожесточенная схватка. В ноздри бил терпкий перечный запах, но я не понимал, откуда он исходит.
Ветви под ногами ломались с сухим стариковским треском.
Указание спилить клены пришло из коммуны: говорили, что в новый зал собраний потребовались стулья, заодно эта мера была нацелена на борьбу с деревенскими суевериями. Мацяосцы все как один отказались браться за пилы, пришлось начальству пригнать в деревню бывшего помещика, который как раз проходил трудовое перевоспитание, а в помощники ему отрядили два семейства бедняков, пообещав им списать по десять юаней долга. Скоро я побывал в зале собраний коммуны и увидел новые стулья, сработанные из мацяоских кленов: после всех партийных собраний, собраний, посвященных планированию рождаемости, водопользованию и свиноводству, после банкетов и застолий на них чернели следы от грязных ботинок и виднелись жирные пятна. И тогда же по всем окрестным деревням разгулялась кожная зараза: людей мучил зуд, даже на улицу они выходили, рассупонившись и не прекращая остервенело чесаться. Чтобы унять зуд, несчастные терлись спинами об углы домов или вдруг ныряли рукой в штаны и чесались прямо во время обсуждения новых указаний из уездной управы. Никакие снадобья не помогали. Говорили, даже санитарный отряд, который прислали из уездного центра, не мог взять в толк, что это за напасть.
Пошел слух, что округу поразил «кленовый лишай», что бесовы клены решили отомстить за свою гибель и наслали на окрестные деревни кожный зуд, выставлявший людей в самом жалком, смешном и глупом виде.
△ Ду́мать
△ 肯
«Думать» – модальный глагол, выражающий желание или намерение выполнить то или иное действие. «Я подумываю жениться», «он надумал уезжать», «она и не думает извиняться» – во всех этих случаях глагол «думать» и его производные описывают внутреннее настроение человека.
В Мацяо сфера употребления этого слова намного шире: глагол «думать» используется не только по отношению к людям, но также к животным и вообще ко всем предметам и явлениям окружающего мира.
Приведу примеры:
– Поле надумало урожаить.
– Вот дела, дрова гореть раздумали.
– Лодке вздумалось прогуляться.
– Дождь уже больше месяца не думает идти.
– Мотыга у Бэньи такая, что вообще не думает землю копать.
Каждый раз, услышав такую фразу, я не мог отделаться от ощущения, что все предметы вокруг одушевлены и наделены сознанием. Поле, дрова, лодка, дождь и мотыга ничем не уступают людям, у них тоже есть свои имена и биографии. На самом деле мацяосцы часто разговаривают с неодушевлеными предметами, улещивают их или распекают, хвалят или кормят обещаниями: например, деревенские уверены, что если как следует обругать сошник, он будет лучше пахать. А если положить секач на горлышко винного кувшина и досыта напоить его винными парами, в следующий раз хворост сам будет рубиться о лезвие. Возможно, без необходимости подчиняться научной пропаганде мацяосцы никогда бы не признали, что живут в окружении неодушевленных предметов, лишенных чувств и сознания.
Если у всего вокруг есть душа, вполне понятно, почему человек оплакивает погибшее дерево и долго не может его забыть. В лесах, которые валят кубометр за кубометром, по деревьям никто не плачет, деревья там вообще не живут, они – всего лишь цифры на бумаге, бездушный источник прибыли. И там никому не придет в голову сказать, что деревья «думают».
В детстве я тоже много фантазировал, одушевляя или очеловечивая окружающие предметы. Например, воображал, что распустившиеся на дереве цветы – это сны, которые видят корни, а крутизну горных тропинок объяснял тем, что лес задумал против меня недоброе. Конечно, это было простое ребячество. Я вырос, стал сильнее и научился объяснять цветение деревьев и крутизну горных тропинок законами физики и химии – а может, я стал сильнее как раз потому, что научился объяснять цветение и тропинки законами физики и химии. Вопрос в том, можно ли считать более правильными воззрения тех, кто сильнее? Довольно долгое время мужчины подчиняли себе женщин, но значит ли это, что их образ мыслей был более правильным? Империя сильнее колонии, но делает ли это имперский образ мыслей более правильным? И если где-то на другой планете существует раса, мощью и развитием намного превосходящая человечество, значит ли это, что все наши воззрения должны быть стерты и замещены инопланетными?
Это вопрос.
Сложный и неоднозначный вопрос, на который у меня нет ответа. Потому что я хочу оставаться сильным, но еще хочу уметь возвращаться в детство, когда был слаб, а древесные корни видели сны и лес в горах строил мне козни.
△ Сокро́вище
△ 贵生
Однажды зимним днем Сюнши, сын каменолома Чжихуна, шмыгая носом, прибежал с деревенскими пастушками на северный склон хребта и стал раскапывать змеиную нору, чтобы достать оттуда спящую змею, поджарить на костре и съесть. Но вместо змеи выкопал тяжеленную ржавую железяку. Сюнши размахнулся и со всей силы стукнул по ней серпом – думал отрубить железяке хвост и наделать из него кухонных ножей, чтобы мать потом продала на рынке. Раздался страшный грохот, пащенят, искавших змеиные гнезда ниже по склону, подбросило в воздух на добрый чи – они замахали руками и ногами, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Наконец крепко ударились о землю и заозирались по сторонам, но Сюнши нигде не было, зато с неба сыпалась трава вперемешку с пылью и капал прохладный дождь. Дождевые капли почему-то оказались красными, совсем как кровь. Пащенята не могли понять, что случилось, думали, Сюнши куда-то спрятался, долго его звали, но он не отвечал. А потом нашли на земле оторванный палец, испугались и побежали за взрослыми.
Приехало начальство из коммуны, учредило рабочую группу. Потом приехало начальство из уезда, учредило еще одну рабочую группу и в конце концов сделало следующее заключение: Сюнши убила японская бомба, сброшенная на деревню в 1942 году. Значит, в Мацяо война продолжалась еще тридцать лет после японской капитуляции, и Сюнши стал очередной ее жертвой.
Родители Сюнши с ума сходили от горя. Особенно Чжихуан: раньше ему все мерещилось, что жена водит шашни с Ваньюем, что Сюнши ему не родной, потому и особой нежности к сыну он не питал. Но после смерти Ваньюя выяснилось, что никаких шашень у жены с ним быть не могло, сомнения Чжихуана рассеялись, и он стал относиться к сыну поласковее. Возвращаясь домой с каменоломни, приносил Сюнши пригоршню диких каштанов или других угощений. И не знал, что скоро его каштаны станут никому не нужны. Сюнши не было дома, не было в поле, не было у ручья, не было на хребте, не было за хребтом, не было вообще нигде. Сын Чжихуана превратился в оглушительный грохот и растаял в вечном безмолвии.
Сюнши был пухлым мальчиком с большой круглой головой и озорными глазенками, такими же ясными и красивыми, как у его матери Шуйшуй. Сюнши умел стрелять ими не хуже заправской кокетки, и, поймав такой взгляд, деревенские всегда вспоминали, что Шуйшуй в юности была артисткой, играла на сцене. Каждый встречный тянулся потискать или ущипнуть Сюнши, потрепать его по щечке. Он терпел такие вольности только в обмен на угощение, просто так никого к себе не подпускал, на незнакомцев смотрел волчонком. Сюнши хватало одного взгляда, чтобы оценить, есть у тебя в кармане что-нибудь вкусное, доверять ли твоей улыбке или напустить на себя невозмутимый вид и продолжать наблюдение. Он терпеть не мог, когда взрослые лезли к нему со слащавыми разговорами, тут же выходил из себя, начинал ругаться, лягаться, плеваться и даже кусаться. Сюнши оправдывал данное ему имя[49]: истерзав материнскую грудь, пустился кусать львиными зубками каждого встречного и поперечного. Одноклассники вечно ходили покусанными – Сюнши не щадил ни мальчиков, ни девочек. А однажды досталось даже директору. Сюнши порезал ножиком школьную парту, а когда его привели в директорский кабинет, наотрез отказался писать самокритику.
– Вам на каждый чих самокритику подавай! Что за дурацкие порядки?
Директор выкрутил сорванцу ухо, но Сюнши цапнул его за руку, подтянул штаны и отскочил подальше, браня директора на чем свет стоит.
– Ах ты, змееныш! – заорал директор. – Прибью!
– Сейчас прибьешь. А вот состаришься, пойдешь с костылем мимо моего дома – спихну тебя прямиком в канаву! – Сюнши воображал свой будущий триумф.
Директор долго гнался за ним, размахивая коромыслом.
Конечно же, догнать Сюнши он не смог – этот шустрый колобок мигом укатился на соседний хребет, встал там, подбоченясь, и заорал:
– Ли Сяотан, дохлый боров! Погляди, у тебя птенчик из штанов выскочил!..
Неизвестно, откуда Сюнши узнал полное имя директора.
Конечно, в школу ему путь был заказан. Деревенские говорили: Чжихуан сына отродясь не воспитывал, потому он и вырос таким бедовым. Какая ему учеба? Любая собака послушней нашего Сюнши!
Потом он часто околачивался возле школы – смотрел, как дети хором читают учебник, делают зарядку или играют в мяч. Поймав взгляд кого-нибудь из бывших одноклассников, Сюнши пришпоривал воображаемого коня: «Н-но!.. Пошел!..» и галопом уносился прочь, делая вид, что очень весело проводит время, а школьные занятия считает недостойными своего внимания.
Однажды деревенские пащенята играли на хребте, и у них вышла ссора из-за старой галоши, которой зачерпывали песок: Сюнши забрал галошу себе и не хотел делиться. Пащенята обиделись и решили ему отомстить – нагадили в деревенский колодец, а потом побежали в поле и стали наперебой рассказывать взрослым, будто Сюнши испортил колодезную воду. Деревенские разозлились, Шуйшуй не знала, куда деваться от стыда, и орала на сына, покрывшись красными пятнами:
– Тебя кто подзуживает, ты дня не можешь прожить, чтобы не набедокурить?
– Это не я…
– Ты еще спорить будешь? Столько человек видело, люди ведь не слепые, глаза у них не гороховые!
– Это не я.
– Всю деревню без воды оставил, сам будешь с ведрами на реку бегать? Ты у меня побегаешь, пока в каждый дом воды не натаскаешь!
– Это не я!
– Еще отпираешься? – И Шуйшуй закатила сыну звонкую оплеуху. Сюнши качнулся, на щеке его проступила красная пятерня.
Шуйшуй хотела отвесить вторую оплеуху, но женщины вокруг принялись ее уговаривать – будет, будет, пащенята все такие, любят напроказить, всыпать ему не мешает, но сильно не бей… Уговоры Шуйшуй только распалили, они словно вынуждали ее устроить над сыном настоящую расправу, вынуждали показать соседкам, что они не зря пытаются ее урезонить, вынуждали увенчать эту историю достойной развязкой. Так что Шуйшуй засучила рукава и влепила Сюнши еще две оплеухи – звук был такой, словно ее ладонь со всего маху бьет по старой кадушке.
Закусив губу, Сюнши уставился на мать. Слезы дрожали в глазах, но ни одна не упала, постояли немного и отступили.
В тот вечер Сюнши домой не вернулся, не вернулся он и на второй, и на третий день… Чжихуан и Шуйшуй обыскали все окрестные горы, остальные деревенские тоже вышли на поиски, и когда надежда найти Сюнши почти истаяла, старый травник из Чжанцзяфани наткнулся на него в какой-то пещере. Сюнши спал, свернувшись на соломенной подстилке, за это время он успел совершенно одичать: лицо превратилось в сплошной струп грязи, одежда была изорвана в клочья. Целых одиннадцать дней Сюнши питался только травой, корой и дикими ягодами, и даже дома, когда Шуйшуй поставила перед ним два вареных яйца, он проглотил всего кусочек, после чего страшно скривился, выскочил на улицу, уселся под деревом и, оглядев соседей пустыми глазами, сорвал пучок травы, а потом сунул себе в рот. Деревенские перепугались: пащенок от яиц отказывается, траву жует – неужели совсем оскотинился?
Помня о том случае, Шуйшуй долго не могла поверить, что Сюнши погиб. Бегала в горы, кричала, звала его до хрипоты – думала, он снова где-нибудь прячется. В конце концов деревенские не выдержали и показали ей оторванный палец, половину ступни и две чашки ошметков плоти вперемешку с костями, тогда только Шуйшуй страшно выкатила глаза и упала без памяти.
Женщины дождались, когда она очнется, и заговорили:
– Все к лучшему, Шуйшуй, что нам еще остается, все к лучшему. Сюнши рано ушел, зато жизнь у него была – сокровище. Ни тревог тебе, ни забот, родители кормят, поят, одевают, целыми днями бегай себе да играй. Сокровище рано кончается, но Сюнши ушел раньше. Не болел, не мучился, счастливая доля выпала твоему Сюнши. Проживи он дольше – вдоволь хлебнул бы горя.
«Сокровищем» в Мацяо называют первые восемнадцать лет у мальчиков и шестнадцать лет у девочек. Дальше идет «полнота», у мужчин она продолжается до тридцати шести, а у женщин – до тридцати трех лет. К окончанию полноты настоящая жизнь считается прожитой, и начинается «гнилуха» – грошовая жизнь, которая совсем ничего не стоит. Если следовать мацяоской логике, лучше умирать молодым, когда твоя жизнь еще в цене.
И родителям Сюнши незачем горевать.
Деревенские женщины собрались у изголовья Шуйшуй и запели сладкими голосами. Шуйшуй, твой Сюнши за целую жизнь ни дня не голодал, это ли не счастье? Твой Сюнши за целую жизнь ни дня не замерзал, это ли не счастье? Не пришлось твоему Сюнши хоронить мать, хоронить отца, не пришлось хоронить братьев с сестрами, не пришлось горя мыкать, не пришлось слезы лить, это ли не счастье? Скоро бы ему настала пора жениться да жить своим домом, из-за каждой чашки с братьями собачиться, из-за каждой плошки с сестрами лаяться, с родителями скандалить до красной шеи, да разве это жизнь? А как мы летом рис убираем – тебе ли не знать – солнце жарит, вода парит, торчишь на поле от зари до зари, спозаранку встанешь и жнешь наощупь, даже не видишь, рис перед тобой или сорняки. А как мы зимой канавы роем – тебе ли не знать – плечи стерты до мяса, идешь босиком по шуге, холод такой, что нужду захочешь справить – штаны лишний раз не будешь снимать. Это разве жизнь? Твой Сюнши ушел раненько, никакого горя на его долю не выпало, съел сахарный корешок у тростника, обглодал мясо с косточки, крикнул и ушел, отец по нему поплакал, мать поплакала, столько родни на проводы собралось, такие похороны устроили – загляденье, ради одних похорон стоило помирать. Так что все к лучшему.
Еще женщины вспомнили старика из верхнего гуна: сыновья и внуки у него померли, остался старик совсем один, живет хуже собаки. Давно охромел, даже воды себе принести не может – врагу не пожелаешь. Шуйшуй, сама подумай, проживи твой Сюнши до старости, променяй он сокровище на гнилуху, кому было бы лучше?
Женщины были единодушны в том, что долгая жизнь человеку ни к чему, их час пока не пришел, но тут уж ничего не поделаешь. А Сюнши умер вовремя, ему повезло больше.
По крайней мере, послушав их уговоры, Шуйшуй больше не плакала.
△ Гнить
△ 贱
При встрече мацяоские старики интересуются здоровьем друг друга с помощью следующей формулы: «Что, почтенные твои лета, как гниешь?» Слова «гнить», «гнилой» и «гнилье» вообще часто используются в разговорах о пожилых, например: «Мать у Яньцзао еще погниет, зараз две чашки риса съедает».
В мацяоском наречии старость называется гнилухой: чем дольше человек живет, тем меньше ценится каждый прожитый год. И все равно некоторые люди надеются пожить подольше – пусть глаза ослепнут, уши оглохнут, зубы выпадут и рассудок угаснет, пусть тело будет приковано к постели, пусть домашние превратятся в незнакомцев, а жить все равно хочется.
Диалектное значение иероглифа «гнить» почти не зафиксировано в словарях – вероятно, лингвисты, собиравшие материал по местным говорам, записывали его схожим по звучанию иероглифом «жить». Вопрос «как живешь?» звучит куда более привычно и выглядит обыкновенным приветствием, но в таком случае из него вымывается столь свойственная жизни жестокость.

