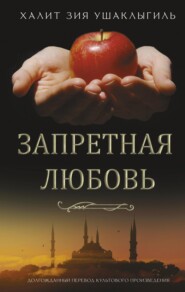скачать книгу бесплатно
Фирдевс-ханым медленно приподнялась, теперь губы обеих были крепко сжаты, словно они хотели сдержать глубокое волнение в голосе, чтобы не выдать бушующие в них чувства. Бихтер подняла голову, убрала руку с колен матери.
– Вижу, ты весьма расположена к этому браку, Бихтер!
Бихтер ответила спокойно, стараясь оттянуть как можно дольше момент спора, который неминуемо должен был разразиться:
– Да, потому что уже не осталось надежды на лучшую партию. Вы хорошо помните, что старшей дочери с трудом нашли Нихат-бея. И мне неизвестно, что до сегодняшнего дня кто-то просил бы моей руки.
– Ты меня удивляешь, Бихтер! Если бы ты сказала мне, что так спешишь выйти замуж… – возразила Фирдевс-ханым.
Хотя Бихтер и была исполнена благих намерений провести разговор спокойно, она, по своей природе готовая вспыхнуть по любому поводу, не сдержалась:
– Ох, здесь нечему удивляться, девушке двадцать два года, впервые ей делают предложение руки и сердца, которое можно было бы принять, и если она наконец выражает свое мнение, я думаю, это вовсе не значит, что она спешит. Признайтесь, причины, которые вы приводите, чтобы отклонить предложение Аднана-бея, может, для другой девушки и были бы и важны. Но для девушки, у которой не осталось надежды найти мужа, кто знает по какой причине, но не потому что проблема в ней самой…
Голос Бихтер вибрировал от волнения. Гудок грузового парохода, плывущего в Черное море, разрезая спокойные воды залива, заглушил ее последние слова. Фирдевс-ханым встала в полный рост, теперь мать и дочь стояли в темноте, лицом к лицу, дыхание к дыханию, изучая друг друга, как два врага, прежде чем броситься и задушить друг друга. Фирдевс-ханым спросила:
– С каких это пор девушки стали бесцеремонно указывать матерям, за кого их выдавать замуж?!
Бихтер, которая пять минут назад ластилась как кошечка, пряча свои острые коготки в мягких лапках, теперь выпустила их и тотчас ответила:
– С тех пор, как матери по непонятным причинам начали чинить им препятствия и не давать выходить замуж.
– Бихтер! Ты не умеешь выбирать выражения! Как ты разговариваешь с матерью! Я думала, я лучше тебя воспитала.
Теперь уже никакая сила не могла помешать спору перейти в открытую схватку.
Их голоса становились все громче, вот-вот готова была разразиться буря, и те, кто сидел в комнате – Нихат-бей и Пейкер могли бы это услышать. Бихтер подошла еще ближе, и, касаясь дыханием, лица матери, ответила:
– Правильнее приписать это не недостатку воспитания, а в значительной степени тому, что вы не проявляли любовь и уважение к дочерям. Сожалею, но я вынуждена в первый раз сказать, вероятно, то, что вы никогда не забудете, но это ваша вина. Прежде чем осуждать свою дочь, советую вам взглянуть на себя. Знаете, почему вы на самом деле отказываете Аднану-бею? Вы скажете: из-за детей и возраста. Разве Нихат-бею тоже было пятьдесят лет? У него тоже были дети? Между тем так, как вы сегодня поступаете со мной, тогда вы поступали с Пейкер. В конце концов вы сдались, на этот раз вы снова сдадитесь, но это поражение для вас будет более горьким, потому что…
Фирдевс-ханым, задыхаясь от ярости, спросила:
– Почему же?
Теперь Бихтер продолжала, наслаждаясь муками стоящей напротив нее матери, с ужасной бесчеловечностью, поворачивая нож в ране, до крови:
– Потому… Вам угодно услышать? Потому, что я знаю в этом доме одну женщину… вот если бы Аднан-бей посватался к ней…
Весь с таким трудом сдерживаемый гнев Фирдевс-ханым вырвался наружу; не позволяя Бихтер закончить предложение, она влепила ей пощечину.
Бихтер в бешенстве схватила мать за руки и, удерживая их, прошипела:
– Да, если бы он посватался к ней, она бы бегом побежала, голову бы потеряла от радости.
Фирдевс-ханым обессиленно опустилась на шезлонг. После того, как она выплеснула свой гнев, последние силы оставили ее и слабость, детская беспомощность навалилась на нее; вот уже некоторое время расшатавшиеся нервы подводили Фирдевс-ханым, и она выходила побежденной практически из каждого спора. Слезы, хлынувшие из глаз, помешали ей говорить. Женщина, выслушавшая этой ночью из уст дочери приговор за все, что она творила в жизни, рыдала, изливая свою печаль в темноту ночи, и бледные звезды на небе взирали на нее с осуждением.
Бихтер не хотела такого результата, не думала, не предполагала, что разговор, который она затеяла в надежде завершить его парочкой поцелуев, закончится слезами; она застыла, не в силах отвести взгляд от света красного фонаря, который извивался и вытягивался, как змея.
Она была уверена, что добьется своего, слезы матери были доказательством победы, но из-за них ей самой хотелось плакать, и она боялась, что разрыдается, если скажет хоть слово. Кусая губы, она слушала судорожные всхлипы матери под шум волн, которые наносили маленькие оплеухи берегу. Мать и дочь – эти два существа, не испытывавших в своих сердцах любви и уважения к друг другу, которые обычно связывают родителей и детей, замерли в тяжелом холодном молчании, словно два врага по разные стороны гроба на траурной церемонии.
Между ними что-то сломалось, но замужество Бихтер состоялось.
Этой ночью Бихтер вошла в свою комнату, торжествуя победу. Ей хотелось как можно скорее остаться наедине со своими мечтами, которые, как она теперь уже не сомневалась, должны были осуществиться. Она быстро разделась, срывая с себя одежду, будто хотела ее разорвать, в одной рубашке, сползающей с плеч, подошла к окну, опустила его и закрыла ставни. Зажгла масляную лампу, потушила свечу, сев на край кровати, стянула чулки и отбросила их; она легла на кровать и, чтобы отгородиться от всего, остаться наедине со своей мечтой, опустила полог кровати.
Дрожащий свет масляной лампы будто бы боролся с сокровенными тайнами комнаты; тени от флаконов на столе раздувались, непропорционально вытягивались, ложились на пол. Бихтер лежала под тюлевым пологом, защищающим ее мечты от действительности, в тишине комнаты витало дыхание сна. Из-под полога – как птенчик белого голубя, высунувшийся из гнезда, чтобы увидеть на горизонте лучик солнца, – выглядывала лишь пухлая ножка, покачиваясь с нервным нетерпением в кокетливой, игривой манере, словно заманивая в эту страстную постель волшебные грезы и сновидения. «Да, – говорила она, – сюда, сюда, роскошные ялы, белые гички, ялики из красного дерева, экипажи, ткани, драгоценности, все эти прекрасные вещи, все эти золоченые мечты… Вы все, идите сюда, скорее сюда».
Глава 2
Когда Аднан-бей вышел из светло-желтой ялы и сел в ялик из красного дерева, в душе он испытывал большое облегчение. Этот визит, в правильности которого он мучительно сомневался и на который не мог решиться вот уже несколько месяцев, был наконец совершен, и с его души словно свалился огромный камень; однако когда он остался один на один с собой в лодке, к ощущению легкости примешалось беспокойство. Сегодня вопреки обыкновению он был один в ялике, Нихаль и Бюлент его не сопровождали, но на местах, где они обычно сидели, ощущалось их незримое присутствие, он словно видел их невинные смущенные лица, слышал их робкие, нерешительные голоса:
– Папочка, где вы были? Что вы сделали?
Действительно, что он сделал? Сейчас, любуясь издалека горными вершинами на противоположном берегу, радовавшими глаз зеленью в последних лучах вечернего солнца, он задавал себе этот же вопрос. На минуту в душе снова проснулись сомнения и страхи, которые терзали его вот уже несколько месяцев, до того, как он решился на этот шаг. В мыслях он воссоздавал всю историю, этапы, мельчайшие подробности этой душевной борьбы. В эту минуту больше, чем когда-либо, он чувствовал необходимость оправдать себя перед своей совестью. И тоненький голосок сомнений снова отступил под натиском многочисленных причин и доводов, убедительно доказывающих его право на осуществление своих желаний.
Действительно, сколько так может продолжаться? Вот уже четыре года он посвящал всю свою жизнь детям, он заменил им мать, чтобы, насколько это возможно, не дать их маленьким неокрепшим душам почувствовать сиротство. Но сейчас он уже не видел разумного смысла в дальнейшем самопожертвовании. Собственно говоря, Бюлент отправится в школу, Нихаль через несколько лет выйдет замуж. Постепенно связь между ними начнет ослабевать, и наконец, как и между любыми отцом и детьми, между ними образуется пропасть, – и эта пропасть будет даже больше, чем сегодняшняя искренняя привязанность. Тогда он останется у этой пропасти один, не в состоянии отогреть покинутое сердце несколькими улыбками, которые как милостыню будут подавать ему дети, заглядывающие к нему время от времени, чтобы утешить его в одиночестве, снежинки этого одиночества прикроют плотным саваном его самопожертвование, не принесшее плодов.
Да разве вся его жизнь не есть сплошное самопожертвование? Стремясь найти побольше убедительных доводов, он отрекался от всех романтических воспоминаний, связанных с его любимой женой, словно вырывал цветы из могилы этой несчастной, чтобы устелить ими воображаемую колыбель своей второй страсти.
До тридцати лет он вел сравнительно невинную жизнь, жена стала самой большой его любовью. Сейчас, когда он об этом думал, все шестнадцать лет брака вспоминались ему бесконечной голой пустыней, на которой не смогла расцвести даже неприхотливая полевая ромашка. В памяти остались только нескончаемые болезни супруги. Он боролся с этими болезнями, годами пытаясь спасти мать своих детей, пока ожидаемый результат не свел на нет все его старания и не оставил его детей сиротами. Потраченные тогда усилия требовали справедливой награды. Он имел право получить компенсацию за выполненный в то время долг. Но в сердце он не мог унять сильное волнение, он не мог решить, как ему убедить в важности этих доводов Нихаль и Бюлента. Ему хотелось, чтобы доводы, которыми он оправдывал себя перед своей совестью, оправдали бы его и перед детьми.
Он отвел взгляд от холмов. Они приближались к Календеру; он подумал, что сможет их встретить, встретить Бихтер. Он слегка повернул руль. И вот он заметил вдалеке белую лодку, он еще приналег на руль и вычертил небольшой вираж. Лодки прошли так близко друг к другу, что чуть не соприкоснулись.
Аднан-бей говорил себе: «Сейчас, через десять минут, они все узнают». Он был уверен, что Бихтер примет его предложение, он, собственно, прочел это совершенно ясно в глазах девушки, ему даже показалось, что он заметил в ее взгляде упрек в том, что он так долго тянет. Он повторял как рефрен: «Да, сейчас, через десять минут…»
Он снова подумал о Нихаль и Бюленте. Он обязательно это сделает, когда приедет домой. Сегодня он собирался подготовить детей; ему хотелось поскорее унять душевную тревогу, которая мешала ему почувствовать себя полностью счастливым.
Ялик из красного дерева беззаботно мчался по морю, разрезая волны, а его беспокойство все возрастало. Он все еще не знал, как лучше сказать детям, в голову приходили разные варианты, но он не мог остановиться ни на одном из них. То он думал о Шакире-ханым – служанке, которая вошла в его дом в качестве рабыни его супруги и которая вслед за рождением Нихаль была отпущена на волю, но осталась в доме в качестве члена семьи[27 - В богатых османских семьях существовала традиция: слуге, рабу и т. п., отработавшим долгое время в доме, выдавали денежное содержание/приданое, женили/выдавали замуж и отпускали, в дальнейшем они могли уехать или остаться жить в доме в качестве члена семьи.], то говорил себе: «Нет, лучше воспользоваться посредничеством гувернантки». Когда лодка причалила и подбежал ожидающий его перед дверью маленький абиссинец[28 - Во времена Османской империи в домах держали рабов в качестве слуг, их покупали на невольничьих рынках. Центром работорговли считался Хиджаз. Хотя торговля рабами была запрещена в середине XIX века, она продолжалась и полностью была отменена только после образования республики.] Бешир, Аднан-бей первым делом спросил:
– Дети не вернулись?
Узнав, что не вернулись, он повеселел: с одной стороны, ему хотелось увидеть детей, с другой – он оттягивал момент встречи с ними. Сегодня, чтобы иметь возможность поехать одному, он отправил детей вместе с их гувернанткой в парк в Бебеке[29 - Бебек – парк рядом с пристанью Бебек на европейском берегу Босфора между Румелихисар и Арнавуткёй, в связи со строительством дороги вдоль побережья в 1959 г. часть парка ушла под дорогу, сейчас площадь парка сильно сократилась.].
Он переоделся, надел брюки из тонкой саржи и белую хлопковую рубашку, которые носил дома, поискал пиджак из черной альпаки, раздраженно отодвинул дверцу зеркального шкафа, посмотрел на вешалку в углу комнаты, но пиджака нигде не было. Он нажал на звонок и стал отчитывать Несрин:
– Везде беспорядок! Никто не следит за моими вещами. Я уже целый час не могу найти свой пиджак!
Рукав черного пиджака свисал с банкетки. Аднан-бей забросал его вещами, которые только что снял. Несрин подошла и вытащила пиджак из-под набросанных вещей.
– Видите? Вы оставили его на банкетке, вы сами никогда ничего не кладете на место.
В последнее время он взял за привычку постоянно ворчать на то, что слуги пренебрегают своими обязанностями, что все пущено на самотек, что когда в доме нет хозяйки, как ни следи, но совершенно невозможно объяснить слугам, чего ты от них хочешь. Когда Несрин выходила из комнаты, он спросил:
– Дети не вернулись?
Спустившись из спальни в холл, он некоторое время смотрел в окно на море, ему хотелось, чтобы все уже было позади. Потом он пошел в свою комнату, в кабинет, решив чем-то себя занять. Его главным увлечением была резьба по дереву. Все свободное время он проводил вырезая ножи для разрезания бумаги, чернильницы, коробочки для спичек, украшая их поверхность рельефной резьбой… Вот уже который день он трудился над небольшим медальоном с профилем Нихаль. Ему захотелось подержать его в руках, продолжить работу, но все валилось из рук. Он снова нажал на звонок, в комнату вошла Несрин:
– Нихаль и Бюлент еще не вернулись?
Несрин, на этот раз ответила, улыбаясь:
– Не вернулись, эфендим[30 - Эфендим – обращение к человеку, в т. ч. к незнакомому.], но должны вот-вот прийти.
Когда девушка вышла, Аднан-бея охватил страх. Да, сейчас они придут. И тогда?.. Что тогда?
Больше всего его волновала Нихаль. Пока он измышлял уважительные причины в стремлении победить свои сомнения, его преследовал страх, который он никак не мог унять, страх за Нихаль. Он волновался, потому что не знал, как его женитьбу воспримет Нихаль. Он был уверен, что его дочь, нежная, хрупкая как цветок, выращенный в тепличных условиях, не останется безразличной к тому, что другая женщина встанет между ней и ее отцом. Когда Нихаль потеряла мать, она была еще совсем ребенком и в то время не прочувствовала в полную силу всю боль потери, но он хорошо видел, что по мере того, как взрослела и умнела, она все чаще ощущала себя сиротой. Когда она, улыбаясь, смотрела на отца, у нее был такой взгляд, что, казалось, в глубине глаз прячутся слезы по умершей матери, которую она не успела узнать и полюбить, лица которой даже не помнила. А сейчас у нее хотят отнять и отца, отца, который стал ей второй матерью. Ох, какую же страшную рану нанесет сердцу Нихаль эта вторая потеря. Каждый раз когда он думал об этом, его сердце обливалось кровью. Однако изменить уже ничего нельзя, мало того, он считал, что Нихаль придется смириться.
Аднан-бей сидел, вытянув ноги, в кожаном полукресле рядом со своим рабочим столом в полумраке, создаваемом коричневыми шторами, он думал, и перед его глазами проносились отрывочными картинами воспоминания о том, как они жили с Нихаль. Сначала он вспомнил, как в первые дни после смерти матери она капризничала, часами плакала по пустякам. Тогда кроме отца ее никто не мог успокоить. У нее было нервное расстройство, приступы наступали с неравными промежутками и часами терзали ее худенькое тельце, лишая сил. Он думал о тревожных ночах, когда случались эти приступы и как он в тот печальный период дежурил у ее кровати.
Однажды ночью его разбудил испуганный голосок – кто знает, от какого кошмарного сна проснулась Нихаль. «Папа, папа», – позвала она. Он встал с кровати, подошел к ней и спросил: «Что такое, доченька?» Увидев, что отец рядом, она успокоилась, улыбнулась и впервые после смерти матери стала его расспрашивать: «А завтра она придет?» Так, не называя имени, не поясняя, о ком идет речь, она говорила о матери. «Нет, детка». Если раньше ей было достаточно такого ответа, то теперь она продолжала расспросы, которые были, видимо продолжением сна. «Она очень далеко уехала? Оттуда трудно приехать, папа?» Он не ответил, только утвердительно кивнул. Со свойственной детям настойчивостью она непременно хотела услышать ответ: «Тогда мы можем поехать к ней, ведь так? Смотри, она совсем не приезжает, совсем-совсем, даже на один денек».
В дрожащем сумеречном свете масляной лампы она выпростала тонкие голые ручки из-под одеяла, притянула его голову и, прижав губы к его уху, словно делилась с ним важной тайной, легким, как дыхание птички, голосом спросила: «Или она умерла?» Она впервые произнесла эту страшную правду. Затем нежными пальчиками вытерла слезы, навернувшиеся на глазах отца, и добавила: «Только вы не умирайте, папа. Вы ведь не умрете?»
Он утешил ребенка, уложил в кровать, укрыл одеялом и долго сидел около нее молча, ожидая, когда она уснет. В ту ночь она несколько раз всхлипывала во сне.
Некоторое время по ночам он не отходил от нее, они засыпали вместе. Даже сейчас Нихаль и Бюлент спали в соседней комнате, дверь в которую всегда держали приоткрытой. За ней находилась комната гувернантки – старушки мадемуазель де Куртон. Одиночество так сблизило отца и дочь, что они получали удовольствие только от общения друг с другом. Они вместе гуляли, вместе проводили вечерние часы. Гувернантка больше занималась Бюлентом, чем Нихаль. По вечерам Нихаль с нетерпением ждала, когда Бюлент попросится спать и мадемуазель де Куртон уведет его, она получала удивительное наслаждение от времени, проведенного рядом с отцом, словно это доверительное общение наполняло счастьем все необитаемые уголки ее души.
Аднан-бей смотрел на свою комнату, на вещи, которые были немыми свидетелями часов, проведенных вместе с дочерью. Вот на противоположной стене библиотека, полная серьезных, важных книг, – высокий, во всю стену, застекленный шкаф из резного орехового дерева; поодаль, напротив двери – некогда собранная богатая коллекция искусных образчиков каллиграфии – расположенные в художественном беспорядке, приятном глазу, они покрывают всю стену. На другой стороне наиболее искусные поделки – плоды его последнего увлечения: шкатулки, украшенные резьбой, рамки для фотографий, ящички для носовых платков, среди них веера, перехваченные лентами, и прямо посредине голова старика, вырезанная из огромного корня дерева. Они словно вопрошающе смотрели на него.
Он долго разглядывал резные изделия на стене. Все они были результатом его труда, все они были сделаны здесь за столом под лампой с зеленым абажуром в присутствии Нихаль в атмосфере любви и нежности.
Аднан-бей взял со стола медальон с изображением Нихаль в профиль, над которым сейчас работал. Он был еще не завершен, еще не определились черты осунувшегося болезненного бледного лица, не было волнистых волос, обрамлявших его рамкой из шелка. Но когда он смотрел на ее лицо, среди этих неопределившихся черт он видел с полной определенностью лицо страдалицы, при виде которого наворачиваются слезы на глаза.
Ах, Нихаль, ее бледное печальное лицо, которое, казалось, сетует на жизнь, притворное веселье легкого румянца на этой бледности, лицо, трепещущее, как хрупкая роза, которая вот-вот завянет. Эти глаза, улыбающиеся, но в глубине которых стенает больная душа, которые, когда она болела, старались обмануть искусственной улыбкой, как будто она притворялась счастливой. Он видел это со всей очевидностью. Он вспоминал болезни дочери, ее нервные припадки, головные боли, начинающиеся с затылка и длящиеся неделями.
Вдруг ему показалось, что Нихаль смотрит на него и плачет. На минуту он подумал: вот бы сегодняшнего дня не было. Да, сегодняшний день нужно было стереть из жизни, он должен был пройти, как и все остальные дни, в будничней суете, он не должен был поддаваться своим желаниям. Но предложение сделано, и ничего уже нельзя изменить. Ему не приходило в голову передумать, пойти на попятную. За этим страдающим, болезненным лицом ему мерещилось другое лицо, с огромными глазами, с густыми черными волосами, изогнутыми бровями, оно призывно улыбалось ему, манило томным взглядом, сводило с ума молодостью и красотой.
Несрин выглянула из-за двери и сообщила:
– Приехали, эфендим.
Из-за спины Несрин послышался голос Нихаль:
– Папа, вы вернулись раньше нас?
Нихаль вбежала в комнату, в голубом платье без пояса, которое на ее хрупкой фигурке казалось не по возрасту длинным; тонкими чертами меланхоличного лица она напоминала изящного козленка; она взяла отца за руки и приподнялась на цыпочки, подставляя ему лоб для поцелуя: – Вы отослали нас от себя, а сами сбежали, да? Куда же вы ездили, папа? Почему не захотели сказать нам, что куда-то поедете? Мы только сейчас от Бешира узнали. О-о, мой маленький Бешир, он мне всегда все рассказывает.
Отец слушал, улыбаясь, а она со свойственной непоседливым детям привычкой каждое свое слово сопровождала движением – то дотронется до чего-нибудь на столе, то коснется подола платья.
– А нам было так весело! Если бы вы видели, мадемуазель сегодня была неподражаема. Она рассказывала Бюленту историю про нищего, которого знала в детстве. Так смешно! Так смешно! Он был такой старый, и большой кусок хлеба…
Рассказывая, Нихаль всплескивала худенькими ручками, настолько тонкими, что, казалось, через них просвечивает солнце. Поднеся ладони ко рту с бледными губами, она изобразила, как заглатывает огромный кусок хлеба.
– Вот так! Видели бы вы, как показывала мадемуазель… Вы же знаете Бюлента, его смех звенел на весь сад, как колокольчик; все оборачивались на нас. Давайте попросим мадемуазель, пусть она за ужином покажет, папа.
Она опустилась на ковер у коленей отца и рассказывала с самыми мельчайшими подробностями, как они гуляли в саду в Бебеке, как порхающая бабочка, перелетая с одной мысли на другую. Потом, вдруг прервав рассказ, серьезно спросила:
– Куда вы ездили, папа? Расскажите-ка, куда это вы тайком от нас ездили?
Он не задумываясь ответил:
– Никуда.
Как только он солгал, ему вдруг стало так стыдно, что он покраснел и попытался исправить положение:
– В Календер.
Нихаль с проницательностью, столь развитой у нервных детей, сразу почувствовала ложь:
– Нет, папа. Вот, вот вы покраснели, значит, хотите от нас что-то скрыть.
Она встала, притворяясь обиженной, наклонила голову и надула губки, и так, исподлобья, смотрела на отца. Он почувствовал, что ему необходимо тотчас, без подготовки, без всяких опасений, все рассказать этому ребенку, этому спустившемуся с небес ангелу, очистить свою совесть, выложить правду, что тяжким грузом лежала у него на сердце.
Он взял Нихаль за запястье; притянул к себе тоненькую, словно веточка, девочку, настолько хрупкую, что трудно было даже предположить, что из нее когда-нибудь разовьется женщина, пропустил пальцы сквозь светлые шелковые волосы, напоминающие облако. Еще секунду назад весело щебечущая девочка с болезненной нервной напряженностью, чуткая, как птица, которая вдруг почувствовала опасность, витающую над тишиной гнезда, с волнением на лице ждала ответа.
И тогда он спросил:
– Нихаль, ты же любишь меня? Очень, очень любишь, правда?
Со свойственным детям ожиданием подвоха она не хотела отвечать, пока не поймет суть вопроса. Отец продолжал:
– Нихаль, я вот что придумал для тебя. – Когда он говорил это, его сердце сжималось. – Но дай мне слово, поклянись, что не будешь возражать и согласишься. Ради меня, потому что ты любишь меня.
Он не мог закончить предложение – заметил в своем голосе такую фальшь, что его бросило в холодный пот. Он замолчал, чувствуя себя преступником, которому предстоит признаться в совершенном убийстве. Нихаль тихонько отобрала у него руку и отошла на шаг от отца. Молча, бледная, с застывшим на губах вопросом, она настороженно смотрела на отца. Она не задала этот вопрос вслух. Почему? Неизвестно. Не пытаясь извлечь смысл из слов отца, она почувствовала, что в эту минуту ее папа, человек, которого она любила больше всех в мире, впервые хочет ее обмануть не по пустяковой причине, как это бывало, – в шутку, нет, эта ложь была настоящей страшной ложью, которая сейчас, прямо здесь сломает всю ее жизнь.
В комнате было темно, они видели только тени друг друга. Между ними как будто пролетел холодный ночной ветер, от которого бросает в дрожь. Отец и дочь, не произнося ни слова, опасаясь сделать лишнее движение, смотрели друг на друга. Этот разговор, который, раз уж был начат, необходимо было продолжить, вдруг словно оборвался. Но нужно было как-то прервать это молчание. Сейчас Аднан-бей корил себя. Зачем он стал об этом говорить сегодня, когда еще ничего не решено, даже ответ еще не получен?
Вдруг послышался звонкий, как колокольчик, смех Бюлента, носившегося по холлу. Его кто-то догонял. Бюлент убегал, топот его маленьких ножек слышался то совсем рядом с комнатой, где разыгрывалась безмолвная трагедия, то отдаляясь и исчезая в далеких уголках комнаты. Чтобы хоть что-то сказать, Аднан-бей произнес:
– Кажется, Бехлюль снова гоняется за Бюлентом.
Нихаль ответила:
– Наверное. Пойду скажу, чтобы перестали. Ребенок и так устал, мы сегодня столько ходили.
Нихаль без сомнения искала причину поскорее уйти. Но разговор нельзя было прерывать на этом, остановиться сейчас, на этой точке, было еще опаснее; в этот момент Аднан-бей решил непременно все рассказать если не Нихаль, то кому-нибудь другому.
– Нихаль, передай, пожалуйста, мадемуазель, я хочу ее видеть.
Нихаль, растворившись белой тенью в темноте, тихонько вышла. Шум в гостиной продолжался. Бюлент так устал, что ему не хватало дыхания, даже чтобы смеяться, он убегал от Бехлюля, который делал вид, что никак не может его схватить, малыш прятался за креслами, в потайных уголках комнаты и с волнением наблюдал, как преследователь подкрадывается к нему. Когда же казалось, что соперник его вот-вот настигнет, он с воплем снова бросался наутек.
Нихаль, выйдя из комнаты, строго прикрикнула на Бюлента:
– Хватит, Бюлент, ты сейчас снова вспотеешь! Стыдно должно быть тому, кто тебя так загонял.
Это был прямой выпад против Бехлюля. Брат и сестра постоянно враждовали. Вот уже три дня Нихаль не разговаривала с Бехлюлем из-за ужасной ссоры, которая произошла по совершенно нелепой причине: Бехлюль раскритиковал шляпу мадемуазель де Куртон.
Увидев Нихаль, Бехлюль остановился, облизав языком светлые тонкие усики, с насмешкой искоса смотрел на нее. Нихаль, поймав мальчика за руку, повела его наверх. Бехлюль, почесав кончик носа, крикнул ей вслед:
– Передайте мои заверения в любви и искреннем почтении мадемуазель де Куртон!