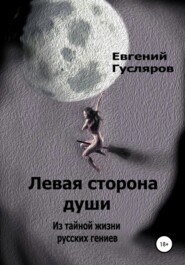 Полная версия
Полная версияЛевая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
«Как чёрта выставить дураком» – это, по собственному признанию Гоголя, было главною мыслью всей его жизни и всего творчества. «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чёртом». Это из письма Шевырёву из Неаполя от 27 апреля 1847 года.
И когда он закончил писать первый том «Мёртвых душ» он отчётливо и с ужасом увидел вдруг, что Россия у него, вся Россия, выглядит вылитым чёртом.
И тогда он судорожно начинает писать второй том. Он, опять же как Христос, будет выгонять бесов из первого тома, как Иисус выгонял когда-то бесов из одержимого, чтобы все увидели, что бывший бесноватый, «одетый и в здравом уме», сидит у ног Иисуса Христа. И ему хорошо. И это будет новая чистая Россия второго тома. Начиная это дело, Гоголь не заметил, конечно, что и сам уже одержим в последней степени.
Чтобы окончательно прояснить себе суть этого тёмного дела, попытаемся восстановить некоторые детали печального дня 5 февраля 1852 года, после которого, по свидетельству современников, Гоголь был окончательно надломлен духовно и физически. В этот день он последний раз виделся с Матвеем Константиновским. Гоголя опять видели провожающим его на железнодорожную станцию. Протопоп бывал в этот приезд у Гоголя несколько раз. В одну из таких встреч, может быть, именно в этот день, он читал рукопись второго тома «Мёртвых душ».
«Дело было так, – рассказывал потом Константиновский, – Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: “Глава”, как обыкновенно писал он главами. Помню на некоторых было написано: глава I, II, III, потом должно быть 7, а другие без означения; просил меня прочитать и высказать своё суждение…».
Прежде, чем отец Матвей прочтёт рукопись и вынесет своё «суждение», выясним один необыкновенно важный для окончания этого невесёлого повествования вопрос. Вопрос о том, как относился Гоголь к творчеству вообще, и особенно к этой последней своей работе.
Последние годы Гоголь жил единственно ожиданием того, выполнит ли он всё-таки величавую задачу, поставленную в конце жизни. Такой он видел и миссию второго тома «Мёртвых душ».
«Гоголь тщательно скрывал от других значение своей бессмертной поэмы и в то же время негодовал, что никто из читателей, и особенно из друзей, не догадался, что он замышлял сделать из своих “Мертвых душ”, какое должно было быть их влияние на Россию. Он так и говорил: на Россию, на судьбу России, на развитие русского общества или на развитие русского человека».
Это из тех же записок А.О. Смирновой.
Весь смысл жизни, каждого дня существования, сосредоточился теперь на рукописи. Пока у него была воля водить пером по бумаге, отыскивая слова откровения, до тех пор сохранялась воля жить.
«Я глубоко убеждён, что Гоголь умер оттого, – догадался один из современников, – что осознал про себя, насколько его второй том ниже первого».
Эту подсказку, подействовавшую как выстрел, в окончательной форме выразил в тот день именно Матвей Константиновский. И тут он опять преследовал свои, только ему нужные цели. Он хотел вызвать отвращение у будущего святого к писательству.
«Я советовал не публиковать и эту тетрадку, сказавши, что осмеют за неё даже больше, чем за переписку с друзьями».
Это был выстрел пулей, отравленной ядом замедленного действия. Новая кара насмешкой была бы слишком велика для него.
Гоголь думал этой последней книгой своей исправить Россию. Не может быть, чтобы эта попытка осталась бы вовсе бесплодной. Не таково было до того слово Гоголя и, не может быть, чтобы стало оно вовсе беспомощным. Думается, что, не прочитавши эту книгу, Россия не сделалась, пусть на самую малость, иной. Беда тут в том, что умная Россия не смогла противостоять неумной. Беда эта, к сожалению, часто повторяется у нас.
«Ночью на Вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа позвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине покоев. “Свежо”, – отвечал тот. “Дай мне плащ, пойдём: мне нужно там распорядиться”. И он пошёл с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришёл, велел открыть как можно тише, чтоб никого не разбудить, а потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесён, он вынул оттуда связку… Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: “Барин, что это вы, перестаньте!” – “Не твоё дело”, – отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесёмку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажёг опять и сел на стуле перед огнём, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лёг на диван и заплакал…».
Возможно, во всей русской истории нет более трагического момента. Гоголь отплатил России, не нарочно, конечно, за непонимание, за глухоту. Он оставил её без книги, которая должна была исправить в ней что-то важное. И что это за мальчик, который вместо всех русских умников один только понял и пережил эту трагедию.
С этого часа он с дивана уже почти не вставал. Приходил Шевырёв и со слезами на глазах, встав на колени, умолял Гоголя принять какие-то лекарства. Какие лекарства могли теперь, после всего, помочь ему? «Оставь меня, я хочу спать», – отмахивался тот, как от назойливой мухи.
В среду 20 февраля ему стало совсем худо. Он часто терял сознание. Этим пользовались. «Что врачи производили над ним грубые насилия, – это теперь вполне установлено», – свидетельствует биограф. Спохватившееся милосердие действовало теперь способами немилосердными.
Приходя в сознание, Гоголь твердил одно; «Это бесполезно, бесполезно». Слабыми силами сопротивлялся запоздалым манипуляциям врачей.
21 февраля 1852 года в 8 часов вечера великого писателя не стало. Случилось это на сорок третьем году жизни. Похоронили его рядом с могилой его друга, поэта Языкова. Вместо эпитафии на надгробии высекли слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся…».
Вечный полумрак: Россию убила литература
Вот что Гоголь писал о себе, вот как понимал он собственное призвание:
«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей».
«Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всём дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну чёрствую досаду да уныние. Нет, это ещё не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком ещё отдалённое её предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадёт тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем».
«Даже честные и добрые люди между собой в разладе. Велико незнанье России посреди России. Все живёт в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями».
А вот что о нём писали другие:
Ф. Достоевский: «Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, – с могуществом, не выражавшимся так сильно ещё никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться».
В. Розанов: «Ни один политик и ни один политический писатель в мире не произвёл в “политике” так много, как Гоголь». «После Гоголя стало не страшно ломать, стало не жалко ломать. Таким образом, творец “Мертвых душ” и “Ревизора” был величайшим у нас… политическим писателем”». «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения».
Фёдор Достоевский
Теневая сторона: Падение донжуана
Вот одна из блестящих метафор, объясняющих творчество Достоевского. Возможно, она ошибочна. Поскольку метафора, конечно, не доказательство. Но, в зависимости от яркости и неординарности, она заставляет думать и поддаваться скрытому в ней смыслу. Метафора, это гипотеза художника, и чем больше в ней блеска и неожиданности, тем больше хочется с ней согласиться. В книге «Современные русские писатели», вышедшей в Петербурге в 1887 году, один из авторов её, французский дипломат и литератор виконт Мельхиор де Вогуэ написал так: «Надо рассматривать Достоевского, как явление иного мира, чудовище могущественное, но незавершённое… мир сотворён не из одного мрака и слёз, в нём существуют… и свет, и веселье, цветы и радость. Достоевский видел только вполовину… Он – путешественник, облетевший всю вселенную и великолепно описавший всё, что он видел, но он путешествовал только ночью».
Вот коллективный его портрет, каким сложился он к этому времени, о котором пойдёт речь, составленный современниками. Походка каторжника, которую навеки выработал он в семипалатинском остроге, лицо скопца, обрамлённое скудной бородой. На лице вместо кожи – пергамент, хоть свиток пиши. Одежда, правда, вызывающе модная, бельё чуть ли не из кружев. Это объяснимо, человек дорвался, наконец, до вольной жизни. И все её блага принял с болезненным наслаждением. Резким контрастом крахмальным рубахам голландского полотна выставлялись из обшлагов сокрушённые каторжной работой руки. Да ещё ступни, раздавленные солдатским плацем и кандалами, не вмещались в остроносые туфли, и ходить ему приходилось в чём-то, похожем на кожаные сундуки.
«Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передёргивались». Это сказала о нём Авдотья Панаева, жена известного писателя, потом спутница Некрасова. В неё Достоевский был влюблён, тайно.
Вообще Достоевский влюблялся при всяком удобном случае. Его донжуанский список включает до полутора десятков в основном юных созданий, порой настолько экзотических, что стоят они отдельного авантюрного романа. Одна из них, например, Марфа Браун, урождённая дворянка Панина, была профессиональной куртизанкой, прообразом нынешних интердевочек, объехала в поисках приключений полсвета и была вызволена Достоевским не то из участка, не то из больничной палаты для нервноувечных.
Об одном сумеречном обольстительном образе, наяву встретившемся ему в его мрачных путешествиях по белу свету, и будет этот рассказ.
Достоевскому исполнилось к этому времени сорок лет. В сорок лет счастья нет – и не будет. Есть такое наблюдение в русском народе. Эмпирическое, взятое из богатого и неутешительного вековечного опыта. Но тут поговорка обманулась. Счастье, по крайней мере, в семейной жизни он позже познает. Не было и денег. В сорок лет денег нет… Ну, и так далее… Денег не будет у него во всю дальнейшую жизнь. К концу её он станет убеждённым монархистом. Не в последнюю очередь потому, что наследник престола, будущий император Александр III, заплатит его долги, в том числе азартно и необдуманно потраченные на рулетку.
Теперь другой портрет. Той, которая на два года стала спутницей его в сумрачном путешествии по тёмной ночи жизни. «Молодая и красивая…», говорила о ней Любовь Достоевская, дочь. «Интересная во многих отношениях женщина», это из журнала «Вестник литературы» за 1919 год. «Говоря вообще, она действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены…», это говорит Василий Розанов, выдающийся русский философ, оказавшийся, к своему несчастью, мужем описываемой тут женщины. «Красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка. Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго, держала себя величаво и недоступно…», добавляет Ф. Достоевский в рассказе «Вечный муж». Розанов уверяет, что тут писатель сказал именно о ней, героине этого очерка. Что сразу бросается в глаза – сошлись на время две крайности. В некотором роде – сказка про аленький цветочек наяву. Хотя в тех её портретах, которые есть у меня, особой роковой красоты не заметно. Не в моём вкусе, видно. Хотя, фотография, конечно, многое отнимает у живого человека.
В повести «Игрок», неприкрыто автобиографичной, болезненно привязанный к игре в рулетку Алексей Иванович так описывает Полину (Достоевский даже имени её не поменял), в которую он мучительно влюблён: «Хороша-то она, впрочем, хороша: кажется хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, её можно всю в узел завязать и перегнуть надвое. Следок ноги у неё узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза настоящие кошачьи, но как гордо и высокомерно умеет она ими смотреть».
Она, Аполлинария Прокофьевна Суслова, была дочерью потомственного крестьянина. Изворотлив был её отец. Ещё до отмены крепостного права он сумел выкупить себя и своих близких у графа Шереметева. Был он самородок, которых немало пропало и пропадает в «простом» русском всегда подневольном народе. Профессор А. Долинин, первым опубликовавший дневник Аполлинарии Сусловой, читал письма её отца к разным людям. И свидетельствует, что написаны они замечательным русским языком, каким писать могут только большие книгочеи и умницы, прирождённые мудрецы. Это передалось и двум его дочерям. Сестра Аполлинарии Надежда, между прочим, стала первой в истории русской женщиной-врачом. Сама же Полина уже в двадцать лет настолько ясно сознавала себя сочинительницей, что отважилась на пробу пера, и это роковым образом вплотную приблизило их, Достоевского и Суслову, друг к другу.
Что-то сразу не совсем ладное чувствуется в этой истории. Молоденькая студентка написала вдруг письмо знаменитому писателю. Там было признание в любви. По всему выходит, что письма этого кроме самого Достоевского никто не видел. Его нет в архивах. Никто его не цитирует. Дочь Достоевского пишет только, что письмо «было простым, наивным и поэтичным». Письмо подоспело вовремя. Жестокое одиночество опять входило в его жизнь. Умирала жена, по пустячному поводу власти отнимали у него журнал, а это был его хлеб насущный и хлеб духовный. Неизвестно, какое время стояло на дворе, но в сумрачную душу писателя будто постучала весна. «Твоя любовь сошла на меня как божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже отдала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил». Это из повести Сусловой «Чужая и свой», где она подробно изобразила их отношения. Надо думать, что это подлинные слова Достоевского.
Но наивным и поэтичным было только письмо. Студентка же оказалась не столь простой. К этому времени она уже бредила литературной славой, и был у неё готов плохонький рассказ, даже на название, которого она не слишком потратилась. «Покуда» – был он озаглавлен. Начинающая писательница, конечно, не могла не знать, что знаменитый писатель, ставший тогда на короткое время кумиром читающей молодёжи, владел довольно популярным журналом «Время». Если перелистать этот журнал Достоевского за сентябрь, например, 1861 года, то мысль о девственной наивности юного дарования как-то сама собой проходит. Рассказ этот тут опубликован и, конечно, совсем не по заслугам. Неуместная, помимо желания, тлеет мысль, что наивная поэзия письма сработала именно так, как предполагалось. К удовольствию автора этого никудышного рассказа «Покуда». Потом вышел ещё рассказ и больше в печати имени писательницы А. Сусловой не появлялось. Кроме как в тех гораздо более поздних изданиях, которые касаются сугубого литературоведения.
Но вот какое дело.
Аполлинария сама оказалась таким произведением, которому нет цены.
Есть два поразивших меня свидетельства о той поре Достоевского. Вот что пишет его дочь: «Думая об этом периоде жизни Достоевского, с удивлением спрашиваешь себя, как мог человек, живший в двадцать лет воздержанно, как святой, в сорок лет совершать подобные безумства… В двадцать лет мой отец был робким школьником; в сорок он переживал тот юношеский угар, который переживают почти все мужчины. Кто не безумствовал в двадцать лет, тот совершает безумства в сорок, – гласит мудрая пословица».
Атмосфера, которой жила редакция журнала «Время» и весь тот интеллигентский кружок, к которому принадлежал Достоевский в то время, имели не совсем здоровый дух. Сам Достоевский способствовал этому не в последнюю голову. Николай Страхов, прибившийся тогда и к редакции, и к кружку тому, тоном отчаяния описывал вещи, которые и теперь не укладываются в сознании. «Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти… С удивлением замечал я, что тут не придавалось важности всякого рода физическим излишествам и отступлениям от нормального порядка. Люди чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею частию сами чуждые какой-нибудь физический распущенности, смотрели, однако, совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об них как о забавных пустяках… Эта странная эманципация плоти действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать…».
Это Страхов написал в «Материалах для жизнеописания Достоевского». Что же это такое, о чём ему «страшно и больно вспоминать»? Посылая эти «материалы» Толстому, Страхов развил те соблазнительные строчки до жуткой определённости. Если бы не слишком уж основательный адресат, можно было бы подумать, что написанное Страховым это легковесный заскок или злонамеренная байка. Там, между прочим, перечисляются настолько омерзительные детали, что мне их придётся опустить вовсе, а дальше идёт следующий пассаж. Относится он, несомненно, к тому времени, о котором тут идёт речь: «Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него, (тут неожиданным образом речь идёт о самом Фёдоре Михайловиче) не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица наиболее на него похожие – это герой Записок из Подполья, Свидригайлов в Прест. и Нак. И Ставрогин в Бесах; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д. здесь её читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания – его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости». Речь, как мы можем понять, идёт о цинизме во взглядах на женщину, на отношения между мужчиной и женщиной. Он, этот цинизм, так же мог наложить на отношения Достоевского и Сусловой свой недобрый отпечаток.
Нет никаких сведений о том, как начинался этот диковинный роман студентки и бывшего интеллигентного каторжника. Известно только, что её первая любовь вскоре обернулась лютой ненавистью. Она потом будет мстить ему своими средствами, которые, пожалуй, тоже можно назвать «простыми и наивными». Если мы дознаемся, что же тут произошло, мы, пожалуй, откроем для себя одну из самых сокровенных тайн отечественного литературоведения и общей нашей культуры. Я думаю, что это немаловажно. Мне, например, не даёт покоя вот какой факт из жизни Пушкина, которая не менее для нас драгоценна. Однажды он садится в зашторенную карету с некоей Идалией Полетика, тоже писаной красавицей. Что там, в карете, произошло, никто не знает. Знают только, что после этого случая Идалия свирепо Пушкина невзлюбила. До такой степени, что её называют одним из главных организаторов и двигателем светского заговора против поэта и его гибели. История Достоевского с Сусловой по таинственности сопоставима с этим печальным эпизодом, какими изобильна история русской литературы. И приведённые выше неудобные в биографии бесспорного гения подробности могут, наверное, пояснить некоторые дальнейшие загадочные обстоятельства в их отношениях.
Конечно, есть документы, вникать в которые совестливому человеку не слишком ловко. Можно впасть в тон бульварного чтива. Приведённые выше строчки как раз тому подобны. Но история Достоевского с Аполлинарией Сусловой именно такова, что обойти её невозможно, поскольку без неё нельзя понять многое из того, что написано Достоевским. Из всех русских писателей он в своих повестях и романах наиболее автобиографичен. Другого такого нет. Может только Булгаков в «Театральном романе», да в «Записках на манжетах». Во всяком случае, если задаться целью, то выписками из его романов можно составить вполне подробный портрет автора. Во всяком случае – очерк его души.
Впрочем, сейчас не об этом речь.
Вот говорят, что Достоевский населил свои романы химерами и призраками собственного больного сознания. Что таких фантастических, намеренно изломанных, специально изобретённых и подогнанных под собственные романы людей в жизни Достоевского никогда не бывало и быть не могло. Потому что таковых вообще не бывает, не существует в природе.
Аполлинария Суслова, жизнь её и характер как раз и противоречат этой поверхностной логике. Она будто бы и создана-то была для Достоевского и его романов. Те, кто внимательно будут изучать историю этой трагической и странной любви, заметят, конечно, что эротический и плотский интерес у Достоевского к этому привлекательнейшему для него существу силён, но ещё сильнее его чисто творческий интерес к ней, интерес художника. По логике житейских банальностей, её, предприимчивую студентку, следовало бы оставить в покое, коль скоро выяснилось, что она вовсе и не любит Достоевского, что она ошиблась в своём чувстве, а, скорее всего, просто придумала его. Не выдержала испытания физиологией, и даже возненавидела эти, оказавшиеся на поверку столь нечистыми отношения. В которых настойчивость зрелого и откровенного желания столкнулась самым суровым образом с первым девственным и наивным опытом. Но эта маета, несмотря ни на что, продолжается целых два года. Аполлинария не может так вот сразу расстаться с его славой, свет которой сделал её ещё более обольстительной в собственных глазах. «Ей нравился не мой отец, а его литературная слава и в особенности его успех у студентов». Это скажет опять Любовь Достоевская. Он же не может оставить без конечного исследования доставшийся ему человеческий материал исключительного своеобразия.
При всём громадном богатстве житейского опыта, Достоевскому, похоже, никогда не хватало знания жизни. Он всегда был творчески жаден к живой этой жизни. Он страшно дорожил своими впечатлениями. Он, как скупец, как жид у Пушкина, дрожит над всякой крупицей своего житейского опыта. Его, этот опыт, надо полностью и до конца упрятать в сундук очередного романа. Он поступает как трудолюбивый старатель. Вначале выбирает самую жирную и богатую жилу, потом вновь и вновь перелопачивает свои наблюдения, чтобы даже самая малая крупица его знаний о жизни и живых людях не пропала.
И вот оказалось, что черты Аполлинарии Прокофьевны Сусловой угадываются почти во всех женщинах, созданных воображением Достоевского – в сестре Раскольникова Дуне, в Аглае из «Идиота», в Лизе Дроздовой из «Бесов», Ахмаковой из «Подростка», и, конечно же, Катерины Ивановны из «Братьев Карамазовых». Дочь Достоевского же доподлинно уверяет, что именно с Сусловой списаны самые колоритные черты Полины Александровны из «Игрока» и Настасьи Филипповны из того же «Идиота». О Достоевском написаны горы книг и исследований, и в каждом мы обязательно найдём попытку разгадать тайну влияния на него, и на творчество его, вечной студентки Сусловой. Вот и выходит, что ни одна женщина, кроме прародительницы Евы и царицы Клеопатры не имела такого влияния на литературу и читательское воображение, как эта свободная в первом поколении русская крестьянка, дочь почётного гражданина из городка Иваново Полина Суслова. Тем она и интересна. И если хоть что-то разгадать в отношениях этих двух людей, то многое можно яснее представить и в творчестве гениального писателя, и в самой его жизни, и в том, как и по каким законам, эта жизнь оборачивалась неповторимыми литературными образами.
Внешне жизнь Достоевского всегда была отчаянной борьбой с обстоятельствами. И теперь эти обстоятельства были исключительно и до конца пропащими. Как было сказано, умирала жена. Как было сказано, погиб, по совершенной случайности, процветающий журнал. Не стоит говорить о том, что было полное и привычное отсутствие денег. Деньги, это особая статья. Нужда в деньгах была всегда настолько безысходная, что создала Достоевскому особый, доселе никому другому неведомый и неподвластный метод работы. Во многом повлиявший на его необъяснимый литературный стиль. Он вынужден был поставить себя с издателями так, что брал деньги вперёд, за одну только идею романа или повести. Это позволяла ему окрепшая репутация мастера. Заказчик, естественно, хотел получить товар как можно скорее, ставил несусветные сроки. В записках и письмах Достоевского есть об этом немыслимые слова: «…сознаюсь, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи, чувствуя себя почтовою клячею в литературе».



