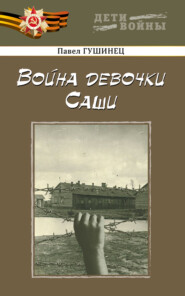
Полная версия:
Война девочки Саши
Потом я оставили педиатрию, научилась делать бронхоскопию и перешла работать в госпиталь инвалидов войны. Там работал потрясающий хирург Николай Васильевич Путов, его комиссуротомии считались шедевром.
Бронхоскопия в те годы была страшно мучительной процедурой. Бронхоскопы сейчас гибкие, а тогда были железные. Пациента держали втроём, чтоб он не дёргался. Назначали только в крайнем случае, потому что травмы случались. Но куда было деваться, делали, учились.
Только начала работать, сразу же сделала страшную ошибку. Перелила пациенту не ту кровь. У нас в отделении была процедурная сестра – пожилая очень строгая дама. У неё все врачи по струнке ходили. Гоняла молодёжь, могла накричать. Боялась я её и не любила. И вот как-то ношусь по отделению, а одному из моих пациентов надо было кровь перелить. Иду в процедурку, медсестра сует мне штатив с кровью. А я нет чтоб проверить, ноги в руки – и бегом прочь, пока не попало. Поставила иглу, села рядом. Тогда врачи контролировали процесс переливания, сидели рядом с пациентом.
Не прошло и пяти минут, пациент кричит:
– Поясница болит!
Я сразу сообразила, что не ту кровь ему дала. Выдернула иглу, побежала за помощью. Спасли его тогда. А меня на утренней пятиминутке, конечно, ругали сильно. Да я и сама знала, что виновата.
Когда Сталин умер, я ревела. Взяла какую-то фотографию из газеты, поставила перед собой и проревела весь день. Это же наш мир разрушился. Я его всю жизнь знала. Он всегда как будто рядом был. Родилась – он уже был, в Ленинграде в блокаде он был где-то рядом, думал о нас. В школе над доской его портрет висел, наблюдал, как мы учимся. А тут не стало его. Поэтому и рыдала. Мать мимо на цыпочках ходила, воду мне стаканами носила. Сейчас вспоминать смешно и стыдно, а тогда была, конечно, трагедия. Крах цивилизации.
Я как ненормальная была с этой работой. Ничего вокруг не видела, не понимала. Если пациент умирал, бежала в морг на вскрытие. Радовалась, когда мой диагноз совпадал с диагнозом патологоанатома.
Однажды умер пациент, его вскрыли, а там первичный рак печени, большая редкость. Я говорю патологоанатому:
– Дайте мне, я своим в больнице покажу.
Тот посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но отдал.
Бегу я по улице, мимо меня девушки идут с авоськами, сумками. Там фрукты, продукты какие-то. А я с печенью и первичным раком.
Прибежала в отделение, зову заведующего:
– Смотрите, что у меня есть!
А у меня накануне день рождения был. Заведующий думал, что я его угостить хочу. Пришёл. А я ему печень под нос:
– Смотрите!
– Наталья, что это?
– Первичный рак!
– Фу, какая гадость! Ты с ума сошла!
Лежала у меня старушка в отделении, лечила я её хорошо, она на поправку шла. Приходит её дочь:
– Ну, как дела? Как мама?
– Лечим, – говорю. – Прогноз хороший.
– Я вам так благодарна, – улыбается женщина и протягивает мне букетик астр и духи французские.
А мне неудобно, не привыкла я к подаркам.
– Ну что вы, – говорю. – Не нужно. И тут она строго так говорит:
– Доктор, вы дурно воспитаны. Дают – берите, не ломайтесь.
И я взяла. Я теперь тоже хожу, приношу иногда коллегам что-то. И понимаю, как это хорошо, когда твой искренний подарок берут и не отвергают. Как молодёжь нынче говорит, не выпендриваются.
Я маме жаловалась:
– Что мне всё конфеты носят? Я столько конфет не ем, и девать их уже некуда, весь кабинет завален. Лучше бы книгу принесли, книг у меня мало.
А моя мудрая мама отвечала:
– Так разве они знают, какую ты книгу читала, а какую нет. А конфеты все любят.
С этими конфетами однажды казус случился. Подарили мне коробку, приношу домой, открываю, а там 25 рублей. Какой ужас!
Побежала вечером по темноте обратно в больницу, отдала пациенту эти деньги. Ещё и отчитала его. Глупая была, принципиальная.
Уже в девяностые в Минске я работала заведующей отделением. Так лечилась у меня женщина из деревни. Выздоровела, пришла благодарить. И принесла с собой огромный мешок.
– Что это? – спрашиваю.
– Курыцы, – говорит женщина. – Добрыя курыцы, свае. Бярыце. Стою как дура с мешком этих кур потрошёных, пациентка убежала.
Вызвала её лечащего врача Галю. Та заходит в кабинет. Открываю мешок.
– Бери, – говорю. – Половина твоя.
– Зачем это? – удивляется Галина.
– Ты пациентку лечила, заслуга твоя. Поэтому бери без разговоров.
Придёт после меня другая заведующая, делиться не будет.
Приходилось и психологом работать. Однажды пришла ко мне пациентка вся в слезах и соплях. У неё операция на носу, а она в депрессии, рыдает, боится. Сажаю её в кресло. Рыдает:
– Мне так пло-о-охо!
Утешаю, по плечу глажу. Не помогает. А мне накануне пациентка гладиолусы подарила. Так я этот букет протягиваю рыдающей:
– Возьмите. Вы такая красивая, как эти цветы. И имя у вас красивое.
– Ой, – растерялась рёва. – Спасибо. Только что я мужу скажу? Он придёт, увидит цветы, приревнует ещё.
– Скажете, что я подарила!
Заулыбалась, реветь перестала. И операция хорошо прошла.
В 1962 году работала я в госпитале на правом берегу Невы, и была у меня страшная ночь в отделении, когда за несколько часов умерли сразу три пациента. Часов в одиннадцать – инфаркт, в полночь – профузное кровотечение при раке лёгких.
Особенно вот это кровотечение запомнилось. Я с тех пор долго не могла смотреть на сок чёрной смородины, хотя раньше любила его. Всё вспоминала, как пациент перегнулся через бортик кровати, у него изо рта хлынула чёрная кровь, а через минуту он уже перестал дышать. К часу ночи я уже издёрганная вся, чуть не плачу. Захожу в палату, как в тумане, пациент меня зовёт. Мужчина лет пятидесяти у самого окна.
– Плохо мне, – говорит. – Давление, наверное.
Меряю ему давление. 170/100. Действительно высокое. А тогда при таком диагнозе ещё принято было делать кровопускание. Я командую медсестре:
– Шприц!
Подаёт. Колю, выбираю кровь. Пациенту вроде бы сразу лучше стало. Я ваткой со спиртом место укола протёрла, пошла к выходу. Только до середины палаты добралась – крик! У пациента обширный инсульт. И он на моих руках умирает за считанные минуты. Я в истерике: третья смерть за ночь. Ещё утром пришлось его жене говорить, что он умер.
И даже в такую ночь у меня мысли не мелькнуло, что я не туда пошла, что, может, белый халат мне не по плечу.
Утром на пятиминутке отчитываюсь перед главврачом Шаталовым. Тот меня ругает, я опять чуть не плачу. Особенно за кровотечение достаётся. И тут неожиданно встаёт женщина-фтизиатр и говорит:
– Что вы её отчитываете? Наталья Павловна всё правильно сделала.
Что она могла сделать в такой ситуации?
И Шаталов как-то смолк. Фыркнул мне: «Садитесь!» – и перешёл к другим делам.
В пульмонологии госпиталя инвалидов войны была ещё вот какая история. Лежал у нас пациент Васильев, тощий, страшненький. Я его жалела сильно. Всё внимание ему, сидела над ним ночами, другие пациенты даже обижались:
– Что это вы, Наталья Павловна, всё вокруг Васильева ходите? И звание у него невысокое, и сам он неприметный да некрасивый. Что за секрет?
А какой тут секрет. Жалко мне его было, вот и всё. Гас человек на глазах, как свечка. И не приходил к нему никто, и писем никто не писал. А ещё молчун он какой-то, даже с товарищами по палате не подружился.
Выходила. Поднялся он, по коридору стал ходить. И тоже за мной хвостом. Пациенты пуще прежнего возмущаться стали.
Да что там больные, даже мой будущий муж Олег ревновал меня к Васильеву. Сижу на посту, пациент рядом. Сидит, молчит, костлявой спиной стену подпирает. А я бумажки заполняю.
Мимо Олег идёт. Васильева взглядом прожёг.
– Что, – говорит, – вы, пациент, на посту делаете? А ну марш в палату!
Васильев бочком-бочком от греха подальше. Олег посопел, пуговицу на своём халате подёргал, но сцену устраивать не стал. Пошёл дальше. Я даже по его походке видела, как он злится.
Васильев голову из палаты высовывает:
– Ушёл?
– Ушёл, – говорю.
– Тогда можно я рядом с вами ещё посижу? Я тихонько.
И крадётся на табуретку. Тень, не человек. Пижама больничная на костях, как на пугале болтается.
Как такого не пожалеть?
А тут мне надо было отлучиться по личным делам в Калининград на неделю. Говорю своим, присмотрите за моим Васильевым, кроме того, 23 Февраля на носу, поздравьте уж, подарок принесите.
Девчонки смеются:
– Не оставим мы твоего тощего, уезжай спокойно.
Уехала. Через неделю возвращаюсь – нет Васильева. И девчонки мрачные какие-то.
– Что с ним? Неужели умер?
– Хуже, – ворчат коллеги. – Наркоманом оказался твой Васильев. В ночь на 23-е забрался в кабинет старшей медсестры, разбил шкаф с наркотиками и сбежал через окно, прямо в больничной одежде. Ловят его по городу, но пока не нашли.
Вот полвека прошло уже, а я всё думаю иногда: если бы я тогда в Калининград не уехала, если бы осталась рядом, может, Васильев переборол бы себя, может, справился бы?
Главный врач Шаталов Николай Николаевич очень на меня сердился, что я в Калининград уехала. Подозревал, что я с будущим мужем туда перееду. Так и получилось.
В середине шестидесятых сын Вовка заболел острым диффузным гломерулонефритом. Прививка от кори дала осложнение. Приезжаю из госпиталя, мама говорит, сыну плохо совсем, моча у него жуткая. Позвонили в педиатрическое отделение, увезли Вовку в больницу.
Вовка маленький совсем, меня с ним положили. Лежу на соседней койке в каком-то застиранном халатике. А тут профессор Тур Александр Павлович, преподаватель мой, с группой студентов. Не узнал меня. Подходит к Вовке, осматривает. Это сейчас принято рассусоливать с мамашами. А тогда он брови сдвинул, громко так говорит:
– Посмотрите, какой запущенный ребёнок! И аденоиды у него, и тонзиллит, и гломерулонефрит! Где эта мамаша?!
А мне стыдно ужасно. Готова сквозь землю провалиться и под одеяло с головой спрятаться. У врача-педиатра такой больной ребёнок. Сапожник без сапог.
Летом мы из Ленинграда переехали на дачу под Винницу Вовку подлечить. Мама поехала первой, нашла и сняла дом. Потом уж мы с Вовкой и няня его, баба Груня. Ехали на поезде, везли с собой огромные узлы, одеяла. Керогаз, корзины какие-то. Баба Груня взвалит на плечи целую гору и несёт молча. Ещё и Вовку за руку тащит. А я уж сзади с чемоданом.
Долго ехали, Вовка изнылся весь. Так на следующий год в Игналину поехали. Привезли с собой приёмник «Атмосфера». По этому приёмнику в июле услышали, что умер Маршак.
Сейчас вспоминаю всё это – Игналина, Винница – и с грустью осознаю, что теперь между мной и этими местами граница, что теперь это всё в других государствах.
Вовка рёва был страшный. Если что не по его хотению, станет посреди улицы, рот раскроет, как крокодил, и давай реветь. Прохожие мимо идут, оборачиваются. Мне стыдно, я его утешаю. Да куда там. Ревёт себе, пока не надоест.
Под Винницей жили в деревне Селищи. Вокруг красота, дубовые леса, грибы белые. Тепло, солнышко светит, не то что в Ленинграде. Идём на базар, хорошо. А Вовка встанет, руку выдернет и ревёт. Бабки украинские мимо идут, крестятся. А мы с Груней стоим как дуры, ждём, пока он проревётся.
Мы с мамой как приехали – сразу в книжный магазин кинулись. Тогда книг хороших было не достать. Особенно в Москве, в Ленинграде. Мигом разбирали. А в провинции можно было наткнуться на что-то редкое. Так обратно ехали, волокли с собой узлы, керогаз, чемоданы и десяток новых книг. Целое сокровище.
Вовка болел тяжело. Несколько раз были у него обострения. Ну и осталось всё в карточках, записей целая кипа. Уже 15 лет сыну стукнуло, надо смотреть, что получилось, не осталось ли последствий. В Первом медицинском работал Рябов, он делал биопсию почки. Сказали подойти к нему. Прихожу.
Рябов глянул на Вовку, на его анализы.
– Надо! – говорит. – Сыну вашему пятнадцать, скоро в армию. Если там недуг его обострится, то могут и не спасти. Мало ли где служить придётся, может, в Средней Азии или на Чукотке. Медицина там, сами понимаете.
А я боюсь страшно. Тогда методика биопсии ещё неопробованная была. Осложнения всякие, опасно.
– Не дам, – говорю. – Он поступит в институт и в армию не пойдёт. Так и получилось. Поступил.
В Минск мы переехали по семейным обстоятельствам. Я в шестой больнице работала, бронхоскопию делала. Доктор из областного тубдиспансера Дегтярёв Владимир Михайлович уезжал в Израиль, так подарил мне все свои записи. Такая была радость. Тащила домой папки, тяжести не чувствовала. Настоящий клад, многолетний опыт врача.
Тридцать пять лет в Минске живу. В прошлом году приезжала в Ленинград, подошла к своему дому Бенуа, посмотрела на колонны. Хотел зайти, по ступенькам попрыгать, но не стала. Не к кому, да и незачем.
Наталья Павловна вздыхает.
– Записали?
– Записал, – отвечаю.
– Есть что-то интересное в моей жизни? – улыбается.
Восемьдесят один год этой женщине, только в прошлом году ушла она на пенсию. Язык не поворачивается назвать её бабушкой. Это дама, настоящая ленинградская дама, цитирующая на память Блока и Есенина. Я по сравнению с ней троглодит необразованный.
– Буду рада, если у вас что-то получится.
Выхожу в жаркий летний день XXI века. Минск, на проспекте шумят машины. У меня перед глазами грязные сугробы, колонны дома Бенуа в инее, маленькая девочка в заснеженном ленинградском дворе и жёлтые сосульки на карнизах.
Папа
Маргарита и Алевтина Сомины (11 и 6 лет, город Оренбург)
Это был обычный летний день. С утра начал накрапывать мелкий дождик, и мама не отпустила нас гулять. Ритка уселась рисовать, а мне было скучно, я слонялась по дому и путалась у всех под ногами. Полистала книжку – сто раз уже видела. Попробовала устроить куклам праздничный обед – тоже надоело, без Ритки не игралось. Посидела на подоконнике, посмотрела, как мокнет под дождём наша улица. Потянулась на кухню, к родителям. Папа точил ножи, мама затеяла пельмени, намесила теста и раскатывала его скалкой по столу. Облачка белой невесомой муки так и взлетали вверх, пачкали мамин фартук. Родители тихонько переговаривались, обсуждали какие-то свои проблемы, кому-то надо было помочь с дачей, кто-то из соседских мальчишек опять попал мячом в окно, надо было полить цветы в палисаднике. Я устроилась на табуретке, наблюдая за ловкими мамиными руками, за тем, как словно по волшебству на столе вырастают стройные ряды пельменей. Чуть слышно бормотало радио, играла какая-то музыка. Это был обычный летний день. 22 июня 1941 года.
Когда по радио зазвучал голос Левитана, папа отложил нож, у мамы затряслись руки, она выронила скалку, с ужасом посмотрела на деревянный ящичек приёмника. Прибежала Ритка, мама как-то судорожно обняла её, прижала к себе.
Я не понимала, что происходит. Ну, война и война. Телевизора и интернета тогда не было, война представлялась чем-то вроде игры в деревянных солдатиков, или как мальчишки с криками носятся по улице. Никто не знал, что это всерьёз и надолго.
Папа вскочил, хотел сразу куда-то идти, но мама не пустила его. Спокойно сказала:
– Подожди. Поешь сначала по-человечески. Я что, зря пельмени развела? Успеешь.
Папа очень любил мамины пельмени, поэтому сел на место и за ножи опять взялся. Ему нужно было чем-то занять руки.
Мама сняла с плиты пельмени. Горячие, вкусные. Это был наш последний обед. Последний раз на много лет мы сидели вместе за столом и ели досыта. Я ещё и ковырялась вилкой в тарелке, выбирала. Если бы я тогда знала, что буду вспоминать о тех пельменях, когда придётся искать паслён и есть его, чтоб только не урчал живот.
Вечером папа собрался и ушёл. Все мужчины собирались в центре города, на площади. Не было ни повесток, ни военкомата. Все шли сами. С чемоданами, рюкзаками, узлами. С кем-то шли плачущие жёны и дети. Мы с мамой не пошли. Мама сказала, что папе и так тяжело будет.
На несколько недель папу и всех мужчин с нашей улицы отправили на обучение в село Петровское, что под Саракташом. От него приходили письма, мы читали и перечитывали их вместе, вечером при свете лампы. Через неделю мама велела Маргарите собираться и ехать к папе, отвезти домашней еды. Это сейчас страшно ребёнка и во двор выпустить. А тогда было просто. Маргарите 11 лет, значит, взрослая, значит, сама разберётся. Маргарита дошла до вокзала, отыскала нужный поезд, уже там, на станции назначения нашла какую-то телегу, которая довезла её до места учений. И у мамы даже мысли не было, что по дороге её кто-то обидит. Тогда было больше хороших людей, они были как-то добрее, что ли.
Сестра вернулась в целости тем же вечером. Рассказала, как папа по нас скучает. Я ещё, помню, расстроилась, что мама не отпустила меня с сестрой.
Ещё помню день, когда папу отправляли на фронт. Через какого-то знакомого он передал нам весточку. Мама бросила все дела, быстро одела нас, и мы втроём пошли его провожать. По дороге мама нам говорила, что, если даже увидим папу, не кричали ему, чтоб ему не было стыдно перед товарищами, чтоб он не расстроился перед отправкой.
На станции собралось много солдат, они шли колонна за колонной, все какие-то одинаковые. Я всё пыталась увидеть своего папу, ведь я его две недели не видела, соскучилась очень.
И вдруг мелькнуло его лицо, я закричала: «Папа!» Бросилась к нему, вырываясь из маминых рук, мигом забыла все мамины наставления. Ну и пусть мама потом будет меня ругать. Ну и пусть смеются товарищи отца. Пробилась к нему через всю колонну. Солдаты сбивались с шага, стараясь на меня не наступить. Папа обрадовался, взял меня на руки, всю дорогу до поезда нёс меня, не выпуская. И ни один командир ему тогда не сделал замечания, ведь все понимали, что, возможно, он обнимает меня в последний раз.
Папа уехал. Мы с Маргаритой ревели и махали руками вслед поезду. Мама тоже плакала, но старалась спрятать от нас лицо. Все были уверены, что это ненадолго. Месяц, два, может, три, а там наша сильная армия разобьёт немцев, прогонит с нашей земли. И папа вернётся.
Потянулись месяцы тяжёлые и страшные. Письма от папы приходили редко, мы радовались каждой весточке, каждому конверту. Тогда все бросались навстречу почтальонам. Почтальонов ещё не боялись. Первые похоронки пришли немного позже.
Цензура в армии была строгая. Солдатам запрещали писать, где они воюют, куда отправляется часть. Поэтому однажды мы получили письмо, которое не сразу смогли понять. Из-за переездов оно, к сожалению, потерялось, но то, что нам было долго непонятно, выглядело примерно так: «Дорогая моя Манюня (папа всегда так называл маму), очень по вас скучаю. Передай, пожалуйста, привет от меня всей нашей родне Степану Тимофеевичу, Анне Леонидовне, Инне Николаевне, Георгию Романовичу, а также дорогой Анастасии Дмитриевне». Когда мама прочла это письмо, мы все были в недоумении, я даже решила, что он там с ума сошёл, ведь у нас не было даже среди знакомых никого с такими именами. Мама много раз перечитывала это письмо и вдруг начала плакать, она поняла, КУДА отправили папу. А он нашёл способ ей об этом сказать, я думаю, что он тогда хотел с ней попрощаться.
Начались перебои с продуктами. Наши порции стали совсем маленькими, и хотя мама старалась отдавать нам последнее, есть хотелось всё время, животы урчали. Тогда-то я вспомнила мамины пельмени.
Совсем впроголодь, конечно, не жили. В нашей комнате стоял старинный комод царских времён, так мама отнесла его в местный театр, продала и на вырученные деньги купила козу. У нас было молоко, сметана. Кормить козу приходилось нам с Риткой. Весь день мы бегали по улице, рвали траву и собирали её в мешки. Траву сушили на дворе, получалось сено. Этим сеном был забит весь чердак и чулан.
Мама вычёсывала козу, из её пуха делала пряжу и вязала платки. Те самые настоящие оренбургские платки. Эти платки были очень тёплыми, их у мамы тут же расхватывали. А на вырученные деньги можно было купить немного муки.
От райисполкома нам выделили участок земли, где можно было выращивать овощи. Но участок этот был за городом, чтоб добраться до него, приходилось идти километров пятнадцать, а то и больше. Вот и представьте, как это, протопать такое расстояние, целый день отработать, а потом ведь ещё нужно обратно добираться. И всё пешком.
Зато осенью добыли тачку и притащили наш первый урожай. Тащили целую гору огромных тыкв, и эти тыквы всю зиму хранились у меня под кроватью. Я до сих пор помню пыльные жёлтые шары, их запах и миллион блюд, которые мама готовила из тыкв. Мы ели тыквы на завтрак, обед и ужин. Мы смотреть не могли на эти тыквы, но другого ничего не было. Как ни удивительно, я тыквы до сих пор люблю. А Ритка с мамой после войны договорились больше никогда тыквы не готовить.
На улице Астраханской у нас был дом с двумя комнатами. До войны в одной спали родители, а во второй – мы с сестрой. Но с первых дней войны в Оренбург потянулись беженцы. Они приезжали на поездах, на каких-то пыльных грузовиках, тянулись длинными тоскливыми колоннами с вокзала. Их нужно было куда-то девать, и беженцев распределили по домам. Поэтому мы перебрались в одну комнату, а вторую отдали беженцам. Разные были люди, у каждого своя история, своё горе. Больше всего мне почему-то запомнились два весёлых парня из Ленинграда. Они очень радовались, что их успели эвакуировать. Один любил по вечерам играть на гармошке, а второй был молчун, каких мало. Они на память нам оставили мешочек с лото. Представьте, люди идут, тащат на себе то, что сумели схватить из дома. Кто одежду, кто ценности. А у этих – лото и гармошка. До сих пор у нас лежит этот мешочек с лото. Раньше мы с детьми в него играли, теперь с внуками.
Мой отец Сомин Сергей Григорьевич выжил в кошмарном аду под названием Сталинград, в 1945-м дошёл до Берлина и вернулся домой.
Моя мама Сомина Мария Васильевна ждала его, вздрагивая, когда мимо калитки проходил почтальон, и пряча голову под подушкой, когда голосили соседи, получившие похоронку.
Мы пойдём до Берлина!
(Александра Голышева, 16 лет, деревня Семёновское Калужской области)
Вечерами Шурка сидит на печке. Ещё с тех времён, когда в деревне были немцы, так повелось. Лишний раз не попадаться на глаза, спрятаться, укрыться. А то бывало всякое.
Да и холодно на улице. Октябрь месяц. Дождь колотит в крышу, а ветер калиновой веткой – в стекло деревенской избы. Мать Прасковья что-то шьёт. Керосин давно кончился, отец нащипал лучины, и мать шутит, что при немцах живут, как при царе – по домам и с лучиной.
Отец Андрей Ефимович рядом с матерью. Просто сидит на лавке, опустив на колени натруженные мозолистые руки. То ли дремлет, то ли думает о чём-то своём. Молчат. Говорить не о чем.
Шурка под драным полушубком чувствует боком, как остывают кирпичи печки. Дров осталось мало, их надо поберечь до зимы, вот и топят едва-едва, лишь бы только хата не выстыла. Шурке и зябко, и тоскливо. И почему-то вспоминается первый день, когда пришли немцы.
Тогда в деревню с рёвом вкатили мотоциклы, солдаты разбойничьей шайкой рассыпались по домам. Сразу же послышались крики и выстрелы, немцы отстреливали кур во дворах. Шурка видела, как два мотоциклиста уводили корову у их соседки, а та, растрёпанная, без платка бежала следом за молодыми мордатыми парнями в серой форме и кричала, повторяя только одно:
– Мы ж старики, мы ж старики!
У родителей Шурки коровы не было, была коза, которую тоже увели. Курами набили мешки, а когда некуда было уже заталкивать окровавленные тельца в белых перьях, стали просто упражняться в стрельбе по мечущейся птице.
В хату зашёл толстый немец в блестящих сапогах. Ткнул отца стволом автомата:
– Партизан?
Партизан в округе ещё не было, но их уже боялись. Немец прошёлся по хате, по-хозяйски засовывая в карманы, что приглянулось. Наткнулся в чулане на кадку с солёными белыми грибами. В тот год летом на грибы был урожай, они росли чуть не на огороде, солили их бочками. Немец вытащил нож, поднял крышку кадки, подцепил один из грибов. Сморщился, выплюнул обратно в кадку. Мать потом хотела выбросить эти грибы, отец не дал. Он как знал, что грибы эти им придётся есть всю зиму, растягивая по кусочку, по половинке, лишь бы только дотянуть до первой лебеды. В тот раз немцы пограбили и уехали. Соседка с плачем ползала по дороге.
Ночью в сентябре из дождливого ненастья шагнул в избу рослый рыжий финн, увидел на Шурке валенки, рванулся к ней, стал стаскивать с ног. Шурка сдуру упёрлась, закричала: «Не отдам!» Финн выхватил нож, стал размахивать им перед носом у девушки. Отец застонал:
«Отдай, Шурка, отдай!», но в девчонку словно бес вселился. Финн уже уходил с добычей, она подскочила к нему, выхватила валенки из рук, прижала к груди. Кто знал бы, чем кончилось бы, но тут в хату на крики вошёл немецкий унтер, брезгливо что-то сказал финну. Тот рявкнул в ответ, спрятал нож за пояс, и вместе они вышли обратно в дождь.

