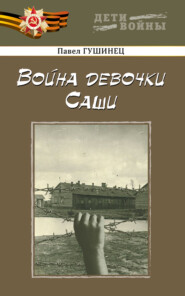
Полная версия:
Война девочки Саши
Немцев Саша представляла плохо. Для неё врагами были полицаи. Немцы не успели сделать ничего плохого. Они проходили мимо, даже не замечая маленькой деревни. А вот полицаи жили тут постоянно. Немцев ненавидели за то, что они немцы. А полицаев за то, что они отняли у соседки Варвары Петровны последнюю курицу, за то, что выбили зубы старику Трофимычу, за то, что ударили Борьку-пастушка по голове сапогом, и он потом долго лежал в своей хате.
Зимой немцы появились в последний раз. Пронеслись через деревню, как саранча. Забрали последних кур, лошадей, всё, что осталось. Не стеснялись выгребать из погребов мёрзлую картошку. В глазах солдат появился голодный блеск. Много стало обмороженных и раненых. По утрам стучали прикладами в дверь. Бабушка с трудом открывала. Дверь примерзала к косяку. Требовали еды, бесстыдно шарили в старушечьем и детском барахле. Брать уже было нечего, уходили разочарованные.
Однажды бабушку позвали в соседний дом. Там по какому-то поводу пировали немецкие офицеры. Нужно было приготовить им еду, прислуживать за столом. Бабушка пошла, надеясь, что дадут хоть какой-то еды. Немцы быстро напились, запели какие-то тоскливые песни, двое обнялись и заплакали. Потребовали у бабушки нагреть воды, чтоб помыться. Были они все худые, облезлые какие-то. Шарахались от всего.
Начали показывать друг другу фотографии своих «фрау». Бабушке любопытно стало, она заглянула через плечо одному. Тот дёрнулся, как будто на голову ему свалились два десятка партизан. За пистолет схватился.
Бабушка ему:
– Да сиди ты, чёрт сопатый!
Тот и осел кулём на скамейку. Пряча глаза от других офицеров, спрятал пистолет.
Однажды вечером бабушка, как обычно закончила все свои дела и уселась перед тусклой керосинкой. Валька накануне порвала платок, зацепившись за ветку яблони. И теперь бабушка зашивала этот платок, подслеповато щуря глаза.
За окном выл ветер. Он бросал в стекло снежную крупу, пробивался сквозь щели, кружа на полу крошечные соломинки. Вдалеке привычно грохотал фронт. Саша уже засыпала, когда в дверь постучали. Постучали громко, уверенно. Этого стука боялись все деревенские. Так стучали Любомиров и Тюрьков, приходя в очередной раз отнять что-нибудь.
Бабушке не хотелось открывать. Но куда деваться. Она тяжело встала, медленно пошла в сени, хрипло спросила оттуда:
– Кто?
В ответ сквозь вой ветра что-то на чужом языке. Саша соскользнула с печи, пошла вслед за бабушкой. Валька зашипела в спину:
– Дура! Ты куда?!
А Саша знала, что бабушке одной страшно. И хотела её как-то поддержать.
Бабушка открыла дверь, и в сени вломился кто-то в чужой заснеженной форме. Человек вёл под уздцы лошадь, запряжённую в сани, и ломился в дом прямо с этой лошадью, с санями и снегом.
– Куда? Куда прёшь, шельма?! – грозно сдвинула брови бабушка. Незнакомец остановился, залопотал что-то, размахивая руками, показывая на лошадь, на сани, на тёмную фигуру, лежащую на санях.
– Немец? – прошептала Саша.
– Кажется, мадьяр, – ответила бабушка.
Венгров Саша тоже видела всего пару раз. Они прошли через деревню ужу ближе к зиме. Почти все молодые, усатые. Они не смеялись, как немцы. Лица венгров были испуганны и неулыбчивы. Они шли умирать.
Мадьяр снова что-то залопотал, показывая на лошадь.
– Не умеет лошадь распрячь, – сказала бабушка. – Городской, видно.
Вдвоём с венгром они подняли с саней тёмную фигуру, отнесли её на бабушкину кровать. Бабушка вышла, распрягла лошадь, отвела её в пустующий сарайчик. Всё это время венгр сидел на табуретке, привалившись спиной к печи. С него капало на пол. Между ног стоял страшный карабин, поблёскивающий в свете керосинки воронёным стволом. Был он совсем молодой, смертельно усталый. Под глазами чёрные тени, руки трясутся, губы сжаты в узкую полоску. Саша спряталась от греха подальше к Вальке под одеяло. Вместе с сестрой они наблюдали за ночным непрошеным гостем.
Вернулась бабушка:
– Ну, что тут у тебя?
Венгр вскочил, принялся показывать на лежащего, что-то просить.
– Вижу, что раненый. Куда его? Венгр показал на ногу.
– Понятно.
У бабушки не было медицинского образования. Но когда позапрошлым мирным летом охромела их корова, напоровшись в поле на проволоку, бабушка лечила её сама. И тут не испугалась. Взяла большие ножницы, подошла к раненому (венгр испуганно дёрнулся, поднял карабин).
– Тихо ты! Сядь!
Венгр послушался. Слов он не понимал, но тон у бабушки был такой, что не послушаться было невозможно. Бабушка срезала с лежащего сапог. Тут же потекла кровь, раненый застонал.
– Ишь как тебя зацепило. Бинт есть? Венгр непонимающе замотал головой.
– Бинт! Ногу перевязать! Снова мотает.
– Послало вас на мою голову, – проворчала бабушка. Она достала из сундука своё старое летнее платье, оторвала кусок от подола и плотно забинтовала рану. Кровь остановилась. Раненый снова затих.
– На лавку ложись. Поспи, – сказала бабушка венгру. Тот испуганно глянул на неё, загораживаясь карабином.
– Тьфу, вояки! Старухи с двумя детьми испугался!
Бабушка подошла к печи (взгляд венгра застыл на стоящем у стены топоре, карабин снова задрожал в руках), бросила в тарелку несколько картошин из чугунка.
– На, вот. Поешь, вражина.
Венгр вцепился в тарелку. Картофелины исчезли, словно по волшебству.
– Довоевались? – проворчала бабушка. – А нечего было…
Всю ночь, до рассвета венгр сидел у печи, лишь изредка поднимаясь, чтобы напоить раненого. Он очень хотел спать, но страх, что эта русская старуха зарежет его и товарища ночью, был сильнее. Несколько раз он на минуту забывался тревожной дремотой, карабин кренился к полу. Но он почти сразу же испуганно вскакивал. Смотрел на топор, на бабушку. А бабушка отрезала кусок от отцовской шинели и всю ночь шила раненому бурку вместо срезанного сапога.
Утром они с венгром натянули бурку на повязку, запрягли лошадь в сани и ночной гость ушёл, пробормотав что-то на прощанье. Бабушка тихонько перекрестила его вслед.
Деревенские потом ругали бабушку, мол, зачем приютила врага, зачем дала ему еду, помогла с раненым.
А бабушка неизменно отвечала:
– Это там, на фронте они враги. А ко мне пришли двое испуганных пацанов, пусть чужих, пусть незнакомых. Я не могла им не помочь. Они ж дети. Совсем ещё дети.
После войны
После войны Саша ещё раз увидела немцев. Вместе с бабушкой они приехали в Воронеж, и там за высоким забором шла стройка. Длинные фигуры в оборванных френчах таскали кирпичи, катили тележки, месили раствор. Восстанавливали то, что разрушили в годы войны.
– Хорошо строят? – спросила бабушка у знакомого прораба.
– Хорошо-то хорошо, – вздохнул тот, – только всё норовят напакостничать. Недавно вот замуровали в вентиляцию бутылку, как ветер дует – в вентиляции выть начинает, как будто там собака застряла. Пришлось полстены разбирать. Глаз да глаз за ними нужен.
Ещё через пару лет всех немцев из Воронежа увезли. И длинные фигуры, разговаривающие на чужом лающем языке, навсегда исчезли из жизни Саши.
Жёлтые сосульки
Наташа, 4 года, Ленинград (доктор Наталья Павловна Абрамянц, 8 сентября 1937 г. р.)
Мы жили в Ленинграде на Кировском проспекте в знаменитом и очень красивом доме архитектора Бенуа. Я очень любила этот дом, особенно его колонны. Становилась у подножия и смотрела, как снежинки летят, ударяются о коричневые гранитные столбы. Иней одевал эти колонны свадебной кисеёй. Сестра по двору бегает, играет, а я на столбы смотрю, оторваться не могу. Мама поступила на химико-фармацевтический факультет первого меда, приехала в Ленинград из Луги, там оставались жить её мама и бабушка.
Была уже замужем, родилась моя сестра Людмила (все звали её Милушка), когда мама на лестнице в институте встретила моего отца доктора Абрамянца. Ну и потеряла голову. Он красивый был, высокий. Мама его по имени-отчеству называла. А ещё – доктор Абрамянц.
Отец был не от мира сего. Бессребреник, только о работе думал. Сидит как-то в комнате, пишет что-то. Слышит: стук со стороны чёрной лестницы. Пошёл открывать. А там стоит мужчина и просит отца:
– Нет ли у вас какой-нибудь одежды? Поизносился весь…
Отец идёт в комнату, достаёт из шкафа свой единственный костюм и отдаёт незнакомцу. Закрывает дверь и идёт опять с бумагами работать. Мама приходит:
– Где костюм?
Отец:
– Я его отдал.
– Кому?
– Тому, кому нужнее.
С детства меня спрашивали:
– Ната, кем ты хочешь быть?
– Врачом, конечно, – безапелляционно заявляла я.
Подружки во дворе мечтали быть балеринами, актрисами. А я – врачом, и всё. У меня и мысли не было, что я стану кем-то ещё.
Война летом началась. Все дети, школы, детские сады за городом были, в лагерях. Так спешно везли их обратно, в автобусах, грузовиках. Женщины бегали среди этих грузовиков, искали своих, кричали, плакали. Паника была, неразбериха.
Бабушка с прабабушкой к нам в Ленинград из Луги приехали. Мол, такое время, надо вместе держаться. Поселились у нас в комнате. Спали на полу, на матрасе. Место мало, тесно, но все свои, никто не обижался.
Мне четыре года было, когда война началась. Сестра постарше, лет девять, но тоже маленькая ещё. 8 сентября мой день рождения, мы с мамой и её подругой тётей Наташей собирались в Петровский сад (так назывался парк недалеко от нашего дома). Мы там всегда гуляли, даже когда война началась. И тут по радио объявляют о начале блокады. Мама с тётей Наташей сели тогда на диван и заплакали. И мы с Людой заревели за компанию. Никто не знал, чем всё это кончится. Если бы знали, ещё громче ревели бы.
Ещё 29 июня дедушка хотел увезти семью из Ленинграда. Вещи уже паковали. А отец с первого дня войны в полевом госпитале, неподалёку. Знаменитый хирург, про него много книг написали. Приезжал один раз домой, когда его отпустили на выходной, и сказал, что ещё отпустят. Так мама упёрлась:
– Не оставлю мужа! Никуда от него не поеду.
Так и остались. А потом узнали, что эшелон, на котором мы собирались уезжать, немцы разбомбили. И многие погибли.
Дедушка Пётр Григорьевич работал на железной дороге, бабушка – бухгалтером. Дед пропал в самом начале блокады. Он на Витебском вокзале работал, встал с утра, оделся, позавтракал, пошёл на службу. И не вернулся. Пропал. До вокзала не дошёл, и домой тоже не дошёл. Тогда многие так пропадали. Может, осколком задело, может стена рухнула прямо на голову.
У нас в доме была очень красивая лестница. Настоящая дореволюционная, с чугунными решётками-перилами, украшенными коваными розами и листьями. Я маленькая любила по ступенькам прыгать. Разгонюсь и лечу. Всё считала, сколько ступенек перепрыгну. В четыре года уже двух прыжков хватало, чтоб пролёт перемахнуть. А зимой, особенно в феврале 1942-го, обессилела совсем. Шла по лестнице мелкими шажочками, как старушка. По два шага на ступеньку. Смотрела на розы и чуть не плакала, когда вспоминала, как когда-то мне хватало двух прыжков.
Зимой голод был. Еды никакой. Дед пропал. Хлеб по карточкам, крошечный кусочек на день. Холодно, свет пропадает, канализация не работает. Мы с мамой, бабушка и прабабушка сядем все вместе, навалим одежды и одеял на себя, так и греем друг друга. Мама рассказывает что-нибудь. Почти хорошо, если бы только кушать не хотелось да за окном не грохотали артиллерийские разрывы.
Квартира потихоньку пустела. Кто-то уезжал, кто-то пропадал, как дед. Кто-то умирал. Дядя Петя, сосед, умер от голода, несколько дней лежал в комнате, пока нашли. С другой стороны евреи жили, осталась из всей семьи только Фая Сергеевна, пианистка. Комнату закрыла и к сестре ушла в другой дом. Больше я её не видела.
Мама в этой квартире с 1934 года жила, когда заселялась, полная квартира была народа. В каждой комнате по трое, а то и по пятеро. Только в самой дальней – одинокая старушка. С этой старушкой некрасивая история вышла. Была она из каких-то бывших. Дом-то богатый, красивый. Уж чем эта старушка не угодила, не знаю. Но как-то пришли и забрали её. А комнату заперли со всеми вещами. Так соседи ходили, на двери поглядывали, всё думали, как бы эту комнату к рукам прибрать. Не успели. Война началась, вся квартира опустела. Хоть во всех комнатах ходи, если привидений не боишься.
На кухне стояла большая плита, так мама жгла в ней книги (у нас в комнате много книг было), ломала мебель, какую смогла. Мать разожжёт плиту, мы соберёмся вокруг, согреемся. Прижимались к плите, пока она не остыла. До последнего ловили всем телом остатки тепла. Даже когда плита полностью остывала, не хотелось от неё отходить, всё казалось, что ещё греет.
Ещё канализация не работала. Все в вёдра ходили. Поначалу, пока силы были, вёдра по лестнице во двор выносили. Расплескают, конечно, по дороге, это всё замёрзнет. Того и гляди, чтоб не поскользнуться. А потом уже силы кончились, так прямо в окна выплёскивали. В окно выглянешь – все карнизы в жёлто-коричневых сосульках.
Милушку той зимой чуть не съели. Мать как-то выпустила её погулять во двор, на свежем воздухе. Там тогда фонтан был, качели какие-то. Милушка на качелях сидит, на снег смотрит. И подходит к ней женщина.
– Девочка, ты конфеты любишь?
– Люблю, – кивает сестра.
– Ты здесь живёшь?
– Да, вон там наша квартира, в пятом парадном.
– А я совсем рядом, вон в этом доме. И машет куда-то неопределённо.
– Пошли, я тебя конфетами угощу.
Какие конфеты, Милушка со вчерашнего дня не ела. Как заворожённая с качелей встала, уже к женщине руку протянула. Да про маму вспомнила:
– Я только у мамы отпрошусь.
– Не надо отпрашиваться, – машет рукой женщина. – Мы за две минуты туда и сразу обратно. Конфеты вкусные, даже шоколадные есть. Мама и не узнает.
И тянется к сестре, уже за пальто её взяла. Милушка что-то в её лице разглядела, испугалась, рванулась и в парадное убежала из последних сил. Женщина кричала ей вслед, но догонять не стала. У неё тоже, наверное, сил не оставалось.
Милушка в квартиру поднялась, маме всё рассказала. Так мама её потом до весны из комнаты не выпускала. Делает что-нибудь, спохватится:
«Где Милушка?» – побежит искать, не успокоится, пока не найдёт, а тогда схватит Милушку за руку и плачет.
Под домом было бомбоубежище. И когда ревела сирена, так мучительно было выбираться из-под одеял, спускаться по длинной бесконечной лестнице, прятаться в подвале. А потом подниматься обратно, останавливаясь и отдыхая на каждой второй ступеньке. Бабушка с прабабушкой однажды не пошли. И перестали ходить. А мама нас с Милушкой заставляла. Мы спорили, хотели остаться с бабушкой, но мама ни разу нас не оставляла.
Мёртвых много было. Люди лежали на улицах, убитые или упавшие от голода. Я поначалу пугалась, а потом привыкла, даже не обращала внимания. Только однажды спросила:
– Мама, а почему, когда убивают, вокруг так мокро?
Сестра очень много для меня делала. Мы постоянно лежали на диване, и Милушка бесконечно читала мне книгу «Про Ивасика-Телесика». Мы уже наизусть знали эту книгу, могли с любого места пересказать. Зима 1942-го для меня – это холод, диван и «Ивасик-Телесик».
Отец приехал в город с фронта. Его часть находилась где-то в Синявских болотах, отпустили на несколько часов. Бледный, худой. Он там сутками не спал, стоял у операционного стола. Раненые потоком шли. Увидел, в каком мы состоянии. Пустая квартира, холод, голод. Я была отёчная вся, двигалась с трудом, сестра и мама еле держались на ногах, бабушки вообще не вставали. Отец тогда ничего не сказал, но стал добиваться, чтоб нас увезли из Ленинграда на Большую землю. Надавил где надо. Его ценили очень. Приходят как-то к маме, говорят:
– Есть два места в грузовике. Для вас и ещё одно. Можете взять либо детей, они вдвоём на одно место поместятся, либо кого-то из взрослых.
Я не знаю, о чём мама разговаривала с бабушкой в эту последнюю ночь. Наверное, прощалась. Это был страшный выбор. Мать или дети. Мама с бабушкой даже не задумались. Бабушки утром прижали нас к себе на секунду и отпустили. Больше мы их не видели. Когда уже после войны вернулись в Ленинград, квартира стояла пустая.
Поездку я запомнила очень хорошо. Грузовики неслись по льду, сильно трясло, вокруг взрывы. На наших глазах соседняя машина уходит под лёд. Мы сидим на самом краю, чтоб успеть выскочить, если что. Ладожский лёд стонет от разрывов, во все стороны летят брызги холодной воды и острые прозрачные осколки. Взрывы так близко, что иногда в лицо летит холодная морось. Немцы бомбят, ещё и стреляют с самолётов, грохот не прекращается.
Мама нас прижала к себе, да так и не отпустила до самого конца, а мы с Милушей вцепились в узелки, в которых смена белья да пара сухарей – самое большое наше сокровище и всё имущество. Пересекли мы Ладогу, остановились в какой-то полуразрушенной деревенской избе, помню, что место это называлось Кабоны. Лежали все на полу, солдаты, гражданские, раненые. Мы устроились у стены, как-то переночевали. А утром сели на поезд.
Мама Милушку спрашивает:
– Куда поедем?
– Поедем к тёте Лёле, – отвечает сестра. Мы вышли на вокзале, нашли нужный поезд и поехали.
Тётя Лёля – жена маминого дяди. Жила в деревне Тоншаево, в Горьковской области. Армянка, двоюродная сестра писательницы Мариэтты Шагинян. Приняла нас, приютила. Какие мы родственники – седьмая вода на киселе. Но для неё были родные.
Вместе с тётей Лёлей жил её муж, дядя Серёжа. Врач, единственный доктор на всю округу. Его когда-то выслали из Одессы за связи с белыми, чуть не посадили. Местные дядю очень уважали, слушали беспрекословно. А тётя Лёля любила вспоминать Одессу. Всё рассказывала, как они молодыми девчонками бегали по улице, «а Мариэтка всё с книжкой сидела, зануда жуткая».
У тёти было две комнаты, маленькая и большая. В большой мы все жили, а маленькую она демонстративно запирала и никого туда не пускала. Мне было очень любопытно, какие сокровища там тётя прячет. Но стеснялась спросить.
В Тоншаево мы сразу заболели тифом. Приехали грязные, несколько дней не мылись, организм ослаблен голодом, ну и подхватили где-то.
Нас с сестрой положили в больницу, а мама перенесла на ногах. Лихорадка, жар, мы бредили, мама боялась, что не переживём болезнь. Особенно я слабая была. Было бы очень обидно выжить в ленинградской блокаде и погибнуть от тифа в тылу. Выжили.
В Тоншаево мы с Милушей пошли в школу, мама устроилась заведовать аптекой. Переехали от тёти, хотя она была против. Неудобно было её стеснять. Жили в том же здании, где была аптека. Одноэтажное здание, в стене щели, дует отовсюду. Но печку затопим – тепло, светло, на столе хлеб, чай горячий. Что нам ещё после Ленинграда надо? Счастье.
Люди приходили к маме днём и ночью. В темноте стучат в окно:
– Надежда, дайте мне пронзительную палочку! Очень срочно надо.
«Пронзительная палочка» – это градусник.
Задние комнаты были до потолка забиты сухим сфагнумом. Это мох такой. Его применяли для перевязок. И вместо ваты подходил, и какие-то природные антибиотики в нём были. И хранился хорошо. Только запах от него неприятный. Но это ничего.
Мы разбогатели, мама завела кроликов, вязала шапочки из их шерсти, шила платья, штаны, юбки, меняла это всё на продукты. Одежда есть, еда, крыша над головой, за окном никто не стреляет, бомбы не падают. Я на крыльцо выходила, прыгала через ступеньки, очень жалела, что ступенек мало, всего четыре. Я бы опять пролет в два прыжка перемахнула. Милуша надо мной смеялась.
В школе учили плохо. Какие тогда учителя в деревне, в глуши. А я очень хотела научиться читать. Достану книгу «Чембиоки» (это такие вязаные ботинки у марийцев или татар), сижу на крыльце, химический карандаш слюню и каждую строчку аккуратно подчёркиваю, как будто читаю.
Весной ещё одно развлечение появилось. Начали коров выгонять на пастбище, так я выбегала смотреть. Коровы по улице идут, мычат, каждая в свой двор заходит, как дрессированные. Для нас, городских девчонок, цирк и зоопарк. Однажды одной корове что-то не понравилось, она меня боднула. Рог уткнулся в забор рядом с моими рёбрами. Я тогда испугалась и с тех пор только издалека за стадом наблюдала.
Милуша подросла, вытянулась, худая, длинная, одни локти и коленки, да ещё волосы стриженые после тифа во все стороны торчат. Бегала с девчонками деревенскими, а я сзади бегу: «И я! И меня возьмите!» А ей со мной уже неинтересно, у них свои секретики, шушуканья. Остановится:
– Иди домой, это не для маленьких!
А мне обидно. Стою, реву в три ручья. Сейчас-то я её понимаю. Что делать девочке-подростку с малолеткой. А тогда очень обидно было.
В Тоншаево мы прожили долго, но так и не прижились. Были мы там чужие и не к месту. Марийцы вроде и свои, советские, но какие-то неопрятные казались. Под рубахами не носили белья. Могли остановиться посреди улицы, ноги расставить и справлять нужду. В классе крик, гам. Я хочу учиться, а мои одноклассники не хотят, прыгают по партам, учитель для них – пустое место.
В 1945-м, под конец войны маме написали знакомые из Ленинграда:
«Надя, немедленно возвращайтесь, а то займут комнаты. В городе появляются какие-то люди, захватывают жильё, потом ничего не докажете».
Мама собралась в один день.
В июле 1945-го мы вернулись в Ленинград. Комната наша страшная, обои лохмотьями висят, на дубовом паркете – толстый слой земли, кто-то прямо в комнате выращивал картошку, вся мягкая мебель, что осталась (диван и два стула), вспороты, пружины торчат, кто-то что-то искал. Стёкол нет, окна забиты фанерой. Подоконник мраморный, белый, я на нём сидеть любила, так весь исцарапан, скверные слова вырезаны. От бабушек и следа не осталось. Ни записки, ни тряпочки.
Первое время жили у маминой подруги, инженера Веры Сергеевны. Мама с Верой Сергеевной очень долго дружили. У них даже была договорённость, что если кто-то из них заболеет тяжело, смертельно, то подруга заболевшей «поможет». Мама была химиком, знала, как всё быстро сделать. Говорила:
– Я лежать не буду!
И не пришлось. Умерла быстро. Но об этом рано ещё. В сентябре мама говорит Милуше:
– Веди Наташу во второй класс.
А там не хотели брать. Сказали, первый класс в деревне не считается. Я еле читала, писала какие-то закорючки вместо букв. Предлагали идти опять в первый. А мама пошла и единственный раз в жизни поругалась. Взяли во второй.
Она всё боялась, что не доживёт, не доучит нас с Милушей. Поэтому торопила, не могла целый год пропустить.
После школы у меня мысли не было куда-то ещё поступать. Только в медицинский. Не поступила я с первого раза, конкурс был такой, что двух ошибок мне хватило, чтоб обошли. Сижу в своей комнате, реву в три ручья.
Мать позвонила отцу, тот приехал, по своим каналам устроил меня в педиатрический. А мне и ладно. Хоть педиатром, хоть лором. Я буду врачом!
Скоро Вовка родился, сын мой. Мне в институт нужно, маме на работу. Мама опять категорично: учись, не пропускай! Кто с сыном сидеть станет? Надо няньку искать. А где её найдёшь, все занятые, серьёзные, а бабушки блокаду не пережили. Август уже, а няньки нет. Я в отчаянии выбегаю в сквер, пристаю к старушкам, которые там на скамеечках сидят:
– Не пойдёте ли в няньки к мальчику?!
А старушки в шляпках, интеллигенция петроградская, смотрят на меня с ужасом, шарахаются: что вы, девушка?!
У отца в больнице работала баба Груня. Санитаркой в морге. Она пошла. Добрейшая была женщина, Вовку, как своего внука, любила.
Когда начала работать педиатром, нас в отделении было четверо. Все молодые, год-два после университета.
Первый вызов свой помню до сих пор. Зверинская улица была, рядом с зоосадом. Прихожу, ищу дом, квартиру. Звоню. А накануне мне мама кольцо подарила с александритом. Обычно александрит не дарят: примета плохая. Но мама в плохие приметы не верила. Сказала:
– Это тебе на удачу.
Я звоню и смотрю на свою руку с кольцом. Страшно было. В голове пусто. А вдруг не разберусь, вдруг наврежу ребёнку. Дверь открыли, а там мальчишка с хроническим тонзиллитом. Всё по учебнику. Классика. Летела оттуда, как на крыльях. Кольцо на бегу целовала. Страх как рукой сняло.
Был ещё такой случай. Вызвали к еврейской семье. Новорожденный у них, несколько дней от роду. Маме лет сорок, полная такая дама, бабушка при ней, такая же полная и бестолковая. Ребёнок больной, худой, а маме на работу надо. Так я прямо на рецептурном бланке написала:
«Освобождение гражданке Фридман с 1-го по 30-е от работы в связи с болезнью сына!»
Она с этой филькиной грамотой пошла на работу, и её отпустили.
Мне очень нравилось лечить. Ходила по вызовам до одиннадцати ночи. Приходила домой и садилась писать карточки. Мама ругалась, грозила всё моё хозяйство в окно выбросить.

