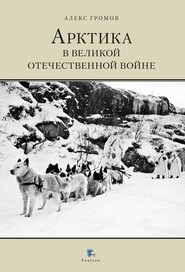скачать книгу бесплатно
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ИЮЛЯ
На Мурманском направлении наши войска, преградив путь противнику, наступающему силами до двух пехотных дивизий на полуостров Средний и на юго-восток, огнем и контрударами наносят ему большое поражение.
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ИЮЛЯ
На Мурманском, Кандалакшском и Ухтинском направлениях наши войска вели бои с отдельными группами противника, вклинившимися на нашу территорию.
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 СЕНТЯБРЯ
Фашистская брехня о советских потерях
Гитлеровцы, увлекшись лживыми измышлениями, до того заврались, что вовсе перестали сводить концы с концами.
В первых числах сентября германское информационное бюро изумило весь мир тем, что одним взмахом пера «уничтожило» весь морской флот СССР. Забыв об этом, немецкое командование в сводке за 22 сентября сообщило: «Германская авиация вчера особенно успешно производила свои атаки против советского флота», при этом якобы потоплены «1 крейсер, 2 эсминца, 1 линкор и 9 пароходов общим водоизмещением примерно в 25 тысяч тонн. Еще два военных корабля и два парохода были подожжены». Таким образом, гитлеровские пустобрехи ухитрились вторично «потопить» корабли флота, уже раз потопленные ими в своих чернильницах. «Врет – себя не помнит», – говорит русская пословица. Так получилось и с гитлеровской брехней.
Незачем говорить о том, что никаких «кораблей советского флота» гитлеровцы не потопили и советских пароходов не сожгли. Дело сложилось как раз наоборот: за последнее время советские моряки потопили 14 немецких транспортов и кораблей и один финский броненосец; повреждены и выведены из строя 10 немецких транспортов и миноносцев.
Часть 2
Начало войны
Налеты и десанты
26 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР, и поэтому приготовления к отражению атак со стороны финских частей и базировавшихся на ее территории немецких войск вступили в завершающую фазу.
По данным разведки, доложенным командованию Северного флота, немцы имели преимущество в самолетах: на территории оккупированной ими Норвегии базировалось 400 машин, а на территории союзной Финляндии – 600, причем многие из вражеских пилотов имели почти двухгодичный опыт боевых действий в небе Европы, в том числе бомбометания с пикирования.
Так, например, высадка людей с транспорта «Моссовет» (грузоподъемность 5 тысяч тонн) в Титовке, небольшом рыбачьем поселке, расположенном в бухте Мотовского залива, проходила под непрерывными налетами вражеских самолетов, которые применяли бомбометание с пикирования. Однако, несмотря на то что «Моссовет» представлял собой удобную цель для вражеской авиации, которая начала бомбить судно с момента выхода из Кольского залива, сопровождающие «Моссовет» эсминцы и катера сумели отогнать огнем вражеские самолеты, и в транспорт не попала ни одна бомба.
В течение 25 и 26 июня 1941 года советские летчики сбили на Севере 10 вражеских самолетов, потеряв при этом шесть истребителей.
А. Г. Головко так описывает в своих мемуарах события 27 июня: «Проявили себя артиллеристы. Прежде всего, артиллеристы той самой батареи, которая первой открыла 22 июня огонь по вражескому конвою. Батарея находится на полуострове Среднем и установлена там после финской кампании. Пушки ее не из новых, но достаточно хорошие, чтобы выполнять свою задачу. Расположена батарея так, что своим огнем преграждает вход в Петсамо и выход из Петсамо в море. Командует ею старший лейтенант Космачев, гордый тем, что является командиром самой правофланговой батареи Советского Союза. Внушает доверие к себе спокойствием и полезной долей упрямства. Хорошая боевая и политическая подготовка личного состава батареи вновь подтверждена сегодня. Утром из Петсамо вышел сторожевой катер. Батарея потопила его буквально в две-три минуты. Артиллеристы торжествовали. Пришлось предупредить их, чтобы ждали удара с воздуха и не очень надеялись на прикрытие: обеспечить их истребителями мы не могли»[34 - Головко А. Г. Вместе с флотом. – М.: Воениздат, 1979.].
Спустя несколько часов группа из 35 немецких самолетов начала применять бомбометание с пикирования, но зениткам и пришедшим на помощь батарее истребителям удалось сбить два «юнкерса». В результате вражеского налета одно из орудий выведено из строя, среди артиллеристов были убитые и раненые. Через пару часов немецкие самолеты появились снова, но командир батареи получил приказ не открывать огонь по противнику, как будто батарея уничтожена. Когда же враг вновь попытается пустить свои конвои и попадет под огонь «уничтоженной» батареи, это будет для него неприятной неожиданностью.
Командующий 14-й армией В. А. Фролов сообщил Головко, что собирается использовать армейскую артиллерию для огневого налета по скоплениям немецко-финских войск. Задача – помешать каким-либо неожиданным действиям немцев на суше, например, против Мурманска. Цели артобстрела заранее изучены.
Тем временем началась эвакуация детей и женщин из Полярного и других гарнизонов на пароходе «Ост». Когда он отошел от причала, началась бомбежка…
В 10:35 утра поступил приказ наркома военно-морского флота выслать подводные лодки в район Варде, чтобы не допустить боевые корабли и транспорты противника к Варангер-фиорду.
Командованию Северным флотом сообщили, что объявлена всеобщая мобилизация. Начальники пароходств и Главсеврыбпрома получили указания сосредоточить весь транспортный флот в портах, ставших пунктами для мобилизации. В состав Северного флота были включены суда морпогранохраны и аварийно-спасательные отряды Экспедиции подводных работ особого назначения, занимавшейся подъемом судов и подводных лодок (к 1941 году численность по СССР превышала три тысячи человек).
Вскоре из столицы командованию Северного флота поступило новое распоряжение: в связи с вражескими диверсиями в тылу объявить военное положение на базах, в укрепленных районах и секторах; установить строжайший режим пропусков; принять меры, необходимые для охраны тыла, особенно средств связи и техники.
Слабым местом была авиация – из 116 самолетов примерно половина были старые, неспособные противостоять в воздухе более совершенным самолетам, управляемым немецкими асами. Используя свое преимущество в воздухе, немцы совершали налеты на корабли. Менее чем через месяц после начала боевых действий, 20 июля 1941 года, германские пикирующие бомбардировщики потопили эсминец «Стремительный».
В схватку с немцами вступили и подводники. А. Г. Головко так писал об их действиях: «К ним успех пришел далеко не сразу, несмотря на решимость и отвагу командиров и экипажей. Этих качеств было еще недостаточно, чтобы отдельные удачи сменились постоянным успехом. Решали опыт, доскональная изученность театра и приемов противника, знание препятствий, и природных, и специально подготовленных гитлеровцами на том или ином участке, искусство поиска, мастерство при выборе момента и направления торпедной атаки плюс спокойная воинская дерзость, ошеломляющая врага»[35 - Головко А. Г., 1979.]. Советские подводники, входившие в состав Северного флота, предпринимали не только торпедные, но и артиллерийские атаки, а также ставили мины у вражеских баз.
Воздушное противостояние
В первый день войны немецкие войска и флот не вели наступательных действий на море и суше против Северного флота и 14-й армии, ограничившись лишь авианалетами. Как отмечает в своих воспоминаниях Головко, «весь день фашистские самолеты, одиночные и группами, стремятся к району Кольского залива и Мурманска. Их перехватывают и поворачивают вспять наши истребители. Один из гитлеровских бомбардировщиков перехвачен у Рыбачьего летчиками-истребителями Сафоновым и Воловиковым. Били они его как будто неплохо, он задымил, значит, имел прямое попадание, но все-таки оторвался и ушел. Оба летчика ручаются, что вражеский стрелок убит, но сказать, что же сталось с фашистским самолетом, не могут. А раз так, нельзя и заносить его на чей-либо счет»[36 - Там же.].
Между тем флотская разведка и разведка 14-й армии докладывали командованию Северного флота, что неприятель через Киркенес и фиорды подтягивает новые части и боевую технику из Северной Норвегии и увеличивает число самолетов на близлежащих к советской границе аэродромах. Помимо этого, на границе с Советским Союзом происходило сосредоточение частей финской армии. По мнению командования Северного флота, немцы могли концентрировать силы, чтобы отрезать Кольский полуостров от остальной страны и захватить подступы к Мурманску и Полярному с моря. А. Г. Головко обратился с просьбой к командарму 14-й армии генерал-лейтенанту Валериану Александровичу Фролову (командовал армией с 25 октября 1939 года по 30 августа 1941 года) нанести совместно с авиацией Северного флота удар по фиордам и по дороге Тана-фиорд – Киркенес, по которой немцы доставляют вооружение и перевозят подкрепления, но получил отказ. По словам командарма 14-й, армейский полк скоростных бомбардировщиков нацелен в другом направлении – на защиту Кандалакши.
На отправленный в начале войны доклад Головко наркому Н. Г. Кузнецову с просьбой о помощи авиацией вскоре также последовал отказ: положение на Балтике и на Черном море еще опаснее, поэтому Северному флоту пока придется обходиться своими силами. Как отметил в своих записях Головко, нарком дал указания, что «нам надлежит стараться уничтожать вражескую авиацию на ее аэродромах ударами с воздуха и действовать подводными лодками у Варангер-фиорда, не позволяя противнику подвозить подкрепления. Финские войска не трогать, поскольку Финляндия с нами не воюет. Но как понимать и расценивать факт предоставления Финляндией своей территории гитлеровским войскам, ведущим войну против Советского Союза?»[37 - Головко А. Г., 1979.]
Управление 1-й смешанной авиационной дивизии, в состав которой входили 145-, 147-, 152-й истребительные авиационные полки и 137-й скоростной бомбардировочный авиационный полк, дислоцировалось в Мурманске. Части дивизии с 22 июня 1941 года действовали в Заполярье, поддерживая с воздуха войска 14-й армии и прикрывая от воздушных налетов Мурманск, Кандалакшу и Кировскую железную дорогу.
К началу войны командование отечественных ВВС на Севере рассредоточило и к тому же успешно замаскировало находящуюся на аэродромах боевую авиацию, что вскоре принесло первые успехи в схватке с врагом в воздухе.
На пятый день войны на советском Севере был осуществлен первый таран. Командир звена лейтенант И. Т. Мисяков (145-й истребительный авиаполк) на самолете И-16 во время воздушного боя протаранил вражеский истребитель «Мессершмитт-110». Советский летчик при этом погиб.
В тот же день эскадрилья 147-го истребительного авиационного полка (1-я смешанная авиационная дивизия) перехватила вражеские бомбардировщики, направлявшиеся к аэродрому Мурмаши, расположенному юго-западнее Мурманска. Под командованием Леонида Илларионовича Иванова советские истребители И-15-бис преградили путь врагу и сбили три самолета. Когда эскадрилья, возвращаясь после этого боя, заходила на посадку, ее атаковали несколько вражеских машин, и командир эскадрильи Леонид Иванов был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года старшему лейтенанту Л. И. Иванову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В честь летчика-героя названы рыболовный траулер и улица в его родном городе – подмосковной Кашире.
29 и 30 июня советские летчики совершили успешные налеты, нанеся повреждения причалам и базам финского Петсамо и потопив пришвартованное там судно. 4 июля был совершен еще один рейд, в результате которого повреждены два вражеских транспорта.
Враг тоже не бездействовал: немецкая авиация совершала налеты на Кировскую железную дорогу и Мурманск. Так, 29 июня, несмотря на героические усилия зенитчиков и истребителей противовоздушной обороны, вражеская авиация нанесла значительные повреждения центральной городской электростанции и части верфей и портовых сооружений Мурманска.
Историк Михаил Жирохов так оценивает планы руководства ВВС Третьего рейха в советском Заполярье: «Еще одной задачей, которую командование люфтваффе ставило перед экипажами Ju-88 из II./KG 30, было нарушение движения по Кировской железной дороге – главному пути транспортировки военного имущества в Мурманск и из него. Эта железная дорога в 1941 году разрушалась немцами более сотни раз, но, имея рассредоточенный по множеству точек запас материалов для ремонта пути, советские железнодорожники всегда могли быстро привести дорогу в рабочее состояние. Осуществляя вылеты на бомбардировку, экипажи немецких бомбардировщиков быстро научились уважать советских летчиков-истребителей, выходивших на перехват…
Немецкие истребители, действовавшие в этом районе, получили большое преимущество после того, как была смонтирована радарная станция раннего обнаружения "Фрейя". Это было редким исключением из правил, поскольку основная часть люфтваффе на Восточном фронте почти всю войну практически не пользовалась целеуказаниями радара.
Истребитель МиГ-3
Фото: Аэрокосмический музей Сан-Диего
Истребитель «Мессершмитт-110»
Фото: Имперский военный музей
Станция "Фрейя", работавшая на длине волны 2,4 метра, имела дальность обнаружения 130–160 километров, что позволяло парировать налеты советской авиации. Результаты ее работы стали явственно отражаться на потерях советской стороны. Так, из 53 бипланов Поликарпова, имевшихся в 147-м ИАП на 22 июня, через три недели было потеряно 33!
Но, несмотря на личные счета своих летчиков, мессершмитты так и не смогли организовать противодействие советским истребителям-бомбардировщикам, постоянно атаковавшим 19-й горнострелковый корпус.
Об этом явственно свидетельствует и советская статистика: до середины августа 57 % боевых самолето-вылетов приходилось на удары по аэродромам врага, прикрытие войск на поле боя и перехват вражеской авиации, а 43 % – на поддержку наземных войск.
После того как 36-й армейский корпус увяз в тяжелом сражении у Саллы, большей части пикировщиков пришлось в срочном порядке вылетать на поддержку войск в этом районе. Наступление на Мурманск, лишенное поддержки с воздуха, с неудовлетворительным снабжением из-за практически полного отсутствия дорог и атак советских ВВС, замедлилось до темпов улитки… Разделение атакующих сил на две части – обеспечение наступления генерала Дитля на Мурманск и выхода на Кировскую железную дорогу 36-го армейского корпуса – оказалось фатальным. Сражение возле Саллы продолжалось больше недели. В конце концов немецкие пикировщики смогли уничтожить советскую оборонительную линию. Позже, в июле, подразделение пикирующих бомбардировщиков было размещено в 160 километрах юго-восточнее Саллы, откуда оно успешно осуществляло поддержку совместного немецко-финского наступления, завершившегося захватом Кестенги. Эти вылеты обошлись очень дорого: к концу года 22 (из имевшихся первоначально 36) Ju-87 были сбиты. Командир подразделения, гауптман Арнульф "Блазмич" Блейзиг, после выполнения 130 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике, 4 сентября был награжден Рыцарским крестом. Но общей ситуации эти отдельные успехи не изменяли. Растущие потери значительно ослабили ударную возможность подразделения.
Немецкое наступление на Кировскую железную дорогу так и не имело никаких серьезных достижений. Советские войска смогли остановить захватчиков в районе Алакуртти. После этого началась позиционная война, длившаяся без малого три года…»[38 - Жирохов М. А. Асы над тундрой. Воздушная война в Заполярье. 1941–1944. – М.: Центрполиграф, 2011.].
В первые же месяцы войны командование делало все возможное для усиления авиации Северного флота. Помимо новых бомбардировщиков Пе-2 (из которых была сформирована 5-я эскадрилья 72-го сводного авиаполка), с завода поступили 10 новых истребителей МиГ-3, из других авиачастей флота на Север перебросили 22 И-16, а затем еще 10 И-153. Также в ВВС Северного флота передали три торпедоносца ДБ-Зф, а спустя несколько месяцев еще шесть самолетов. С Балтики на Северный флот в сентябре 1941 года была перебазирована 22-я авиаэскадрилья морских дальних разведчиков Че-2 (МДР-6; экипаж четыре человека, вооружение – два 7,62-мм пулемета ШКАС, бомбовая нагрузка до 1000 кг). Эти самолеты использовали для обеспечения проводки морских конвоев – ведения общей и ледовой разведки по маршрутам их следования. Впоследствии проявились недостатки этой модели в схватке с врагом – слабость оборонительного вооружения и наличие значительных мертвых зон обстрела.
Первый натиск
29 июня 1941 года вермахт начал операцию «Платиновая лиса» – бросок к Мурманску. В состав армии «Норвегия», принимавшей участие в этой операции, входили горнострелковый корпус «Норвегия», 36-й горный корпус, финский 3-й армейский корпус. Общее численность этих корпусов составляла немногим более 68 тысяч человек. Около 150 тысяч человек, входящих в состав семи дивизий и нескольких подразделений, были по приказу Гитлера оставлены на территории Норвегии для отражения возможного британского вторжения.
Уже в августе 1941 года продвижение немцев на север остановилось, и более силам вермахта потеснить сухопутные советские войска и моряков не удалось. Тогда же, задолго до всех официальных соглашений и договоренностей, началось фактическое военное сотрудничество Англии и СССР: по просьбе вице-адмирала Головко 151-е крыло Королевских ВВС Великобритании нанесло удар по немцам на Кольском полуострове, о чем еще будет подробно рассказано.
Западные историки Сэмюэль Митчем и Джин Мюллер в книге «Командиры Третьего рейха» говорят о том, что для немецких войск одной из самых больших проблем стал сама природа советского Заполярья: «Голая тундра, валуны, гравий, вечная мерзлота и сотни озер, остающихся после таяния снегов. Не было ни дорог, ни железнодорожных путей, ни мостов, ни пищи для солдат, ни фуража для лошадей. К тому же лето в этой части Арктики было очень коротким. Немецким войскам недоставало опыта в ведении войны в арктических условиях. Советы же, в свою очередь, понимали, что им необходимо отстоять незамерзающий мурманский порт, иначе они потеряют большую часть помощи, оказываемой им западными союзниками.
Используя железную дорогу Ленинград – Мурманск и Мурманское шоссе, они укрепили свою оборону к западу от города и оказали упорное сопротивление противнику. В июле XXXVI корпус смог продвинуться вперед всего на 13 миль, потеряв при этом 5500 человек.
Фалькенхорст прилагал все усилия, чтобы обеспечить наступление, но его тыловые проблемы были просто непреодолимы, и к 12 сентября состояние снабжения его войск стало критическим. Британские подводные лодки потопили корабли, на которых доставлялись припасы, у северного побережья Финляндии и Норвегии, и у его пехотинцев оставалось всего лишь полтора боекомплекта.
До 18 сентября Советы предпринимали постоянные атаки, и Фалькенхорсту пришлось перейти к обороне. 7 ноября 1941 года Гитлер забрал у Фалькенхорста мурманскую группу войск и передал их сформированной в Лапландии армии Эдварда Дитля, которая позднее стала 20-й горнострелковой армией. Фалькенхорст сохранил за собой пост командующего "норвежской" армией, но приобрел репутацию неудачника…»[39 - Митчем С., Мюллер Дж. Командиры Третьего рейха. – Смоленск: Русич, 1997.].
Действительно, наступление в Заполярье вскоре захлебнется…
Битва за Мурманск
Государственную границу Советского Союза севернее Ладожского озера накануне Великой Отечественной войны защищала 7-я армия. Ее управление, расформированное после окончания советско-финской войны, было создано заново приказом Наркома обороны № 0050 от 18 сентября 1940 года. Армию сформировали на базе 56-го стрелкового корпуса с дислокацией в Петрозаводске. Командующий (28 января – 24 сентября 1941 года и 9 ноября 1941 года – 4 июня 1942 года) – генерал-лейтенант Филипп Данилович Гореленко. Через двое суток после начала Великой Отечественной войны 7-ю армию включили в состав Северного фронта, и в июле она вела оборонительные бои в Карелии, сражаясь против финских войск.
К началу августа 1941 года войска держали оборону в 25 км северо-западнее города Олонец, расположенного на Олонецкой равнине, на рубеже Поросозеро – Шотозеро – река Тулокса. В конце августа армия была предана в состав Ленинградского, а с начала сентября 1941 года – в состав Карельского фронта. С 24 сентября по 11 ноября 1941 года армией командовал один из самых известных советских военачальников – генерал армии (впоследствии Маршал Советского Союза) Кирилл Афанасьевич Мерецков. Выпущенный 6 сентября 1941 года из тюрьмы Мерецков был принят Сталиным, 9 сентября направлен представителем Ставки Верховного главнокомандования на Северо-Западный фронт, а через 15 дней возглавил 7-ю отдельную армию.
В своих мемуарах Мерецков так описывает ее сложное в то время положение: «Когда гитлеровцы пошли на штурм Ленинграда, финны резко усилили нажим на 7-ю армию и рассекли ее войска на три группы. В результате боев центр позиций армии глубоко выгнулся на восток. Находившиеся здесь соединения раздвоились на Южную группу, прикрывавшую устье Свири, и Петрозаводскую. Третья группа была отрезана от основных сил, когда финны прорвались к Кондопоге, и отошла на северо-восток. Там она и осталась под названием Медвежьегорской. С Медвежьегорской группой из-за дальности расстояния связь осуществлялась слабо. Радиостанций у нас было очень мало. В нужном количестве радиотехника попала в войска гораздо позднее. Связь между двумя другими группами грозила вот-вот прекратиться, так как финны выходили уже на берег Онежского озера в районе селения Шелтозеро. Скорее вывести Петрозаводскую группу из-под удара, чтобы ее не сбросили в воду, и передислоцировать на юг, а там организовать прочную оборону по реке Свирь – вот что подсказывала обстановка. Действовать надо было немедленно, и я 24 сентября взял командование 7-й армией на себя… Сразу же приступили к решению главной задачи – к организации планомерного отвода войск…. Отводя войска, мы старались создать на Свири такую линию обороны, которая стала бы для Карельской армии финнов непреодолимой»[40 - Мерецков К. А. На службе народу. – М.: Политиздат, 1968.].
Однако вначале напор был очень сильным. Финские войска планировали прорваться через реку Свирь и соединиться с немцами у Волхова, а в другом направлении выйти через район озера Белое к Вологде. Шли ожесточенные бои, и возможности оказать значительную поддержку защитникам Заполярья не было.
14-я армия, сформированная в октябре 1939 года в Ленинградском военном округе, и обеспечивавшая прикрытие государственной границы с Финляндией, к началу войны занимала полосу обороны от побережья Баренцева моря до Ухты.
В состав армии входил 42-й стрелковый корпус (104-я, 122-я стрелковые дивизии и 1-я танковая дивизия, которая формировалась в лагере Струги Красные с июня 1940 года) и отдельные 14-я (вновь сформированная в ходе Зимней войны) и 52-я (сформированная в 1935 году в Московском военном округе) стрелковые дивизии, 23-й укрепленный район и 1-я смешанная авиационная дивизия двухполкового состава. К началу войны управление дивизии дислоцировалось в Мурманске. В состав входили: 145-й истребительный авиационный полк, 147-й истребительный авиационный полк, 152-й истребительный авиационный полк, 137-й скоростной бомбардировочный авиационный полк. Летчики с первых дней войны поддерживали с воздуха войска 14-й армии и обеспечивали прикрытие от воздушных налетов Мурманска, Кандалакши, Кировской железной дороги. 15 февраля 1942 года 1-я смешанная авиационная дивизия была расформирована, из управления расформированной дивизии образовали управление ВВС 14-й армии.
42-м стрелковым корпусом с 14 марта по 23 августа 1941 года командовал генерал-майор Роман Иванович Панин. С 24 августа 1941 года до 27 марта 1942 года Р. И. Панин командовал 14-й армией Карельского фронта, которая в 1941 году отстояла в ходе Мурманской операции Мурманск и нанесла немцам в ходе боев тяжелые потери.
Генерал-майор Георгий Александрович Вещезерский (с 9 июля 1941 года командир 52-й стрелковой дивизии, отличившейся в сражениях на мурманском направлении; с декабря 1941 года командующий Мурманской и Массельской группами войск; в марте 1942 года назначен на должность заместителя командующего 32-й армией Карельского фронта) в мемуарах так пишет о своем командире: «Генерал был обаятельный человек, быстро находил путь к сердцу каждого сослуживца. От него так и веяло бодростью, энергией. В самые трудные минуты он не терял присутствия духа. Жизнерадостный, остроумный, Панин пользовался всеобщей любовью»[41 - Вещезерский Г. А. У хладных скал. – М.: Воениздат, 1965.].
Военный совет Северного фронта (образован 24 июня 1941 года на базе управления и войск Ленинградского военного округа) и руководящая им Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР поставили перед командованием 14-й армии задачу: прикрыть северное побережье Кольского полуострова от немцев, удержать полу острова Рыбачий и Средний и не допустить прорыва вермахта на мурманском, кандалакшском и кестеньгском направлениях. Ширина полосы обороны 14-й армии в самом начале Великой Отечественной войны достигала 550 километров. В Мурманске, в районе командного пункта, располагался противодесантный резерв в составе стрелкового батальона.
22 июня 1941 года в Мурманской области и самом Мурманске объявили военное положение. К началу Великой Отечественной войны население Мурманской области насчитывало около 1 109 000 человек, из которых около 310 тысяч человек было призвано в армию и на флот. В три городских военкомата (Ленинский, Кировский и Микояновский) пришло множество людей. Среди них не только призванные по повесткам новобранцы и военнослужащие запаса, но и множество добровольцев, в том числе женщины и молодые девушки, просившие отправить их на фронт. Кому-то уже довелось воевать в Финскую, Гражданскую и Первую мировую, другие еще ни разу не держали в руках настоящую винтовку или гранату.
Впоследствии, 5 мая 1942 года, Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны о мобилизации комсомолок-добровольцев в Военно-морской флот. В тексте указывалось: «Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 20 мая 1942 года в части Военно-морского флота 25 000 девушек – комсомолок и не комсомолок – добровольцев в возрасте 19–25 лет с образованием 5–9 классов, согласно прилагаемой разверстке по областям и фронтам… Мобилизуемых девушек направить для замещения краснофлотцев: …Северный флот – 1100…
Мобилизованных девушек обеспечить всеми видами довольствия… На мобилизованных девушек выделить ВМФ 25 000 пайков.
Обязать начальника Главного управления портов ВМФ и начальника ОРСУ ВМФ разработать образцы одежды и изготовить 25 000 комплектов обмундирования для мобилизованных девушек».
Мобилизацию девушек для Северного флота надлежало провести Татарскому, Марийскому, Архангельскому, Вологодскому и Мурманскому обкомам партии.
«На основании постановлений Государственного Комитета Обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 г., были проведены массовые мобилизации женщин 25 марта, 13 и 23 апреля 1942 г. для несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и Военно-Воздушных силах. Мобилизации подлежали здоровые девушки в возрасте не моложе 18 лет. Вопрос проведения мобилизации проводился под контролем ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских организаций.
При этом учитывалось все: образование (желательно не ниже 5 классов), членство в комсомоле, состояние здоровья, отсутствие детей. Основная масса девушек были добровольцы. Правда, были случаи нежелания служить в Красной Армии. Таких девушек отправляли по месту призыва»[42 - Женщины Великой Отечественной войны / составитель Н. К. Петрова. – М.: Вече, 2014.].
ДИРЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НКО
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГРОМАДИНА,
НАПРАВЛЕННАЯ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВЛКСМ Н. МИХАЙЛОВУ
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАМЕНЫ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
ЖЕНЩИНАМИ-КОМСОМОЛКАМИ В МУРМАНСКОМ
ДИВИЗИОННОМ РАЙОНЕ ПВО ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ ФРОНТА
Г. МОСКВА 29 МАРТА 1942 г.
В связи с тем, что части Мурманского дивизионного района ПВО действуют в непосредственной близости от фронта, замену в этих частях красноармейцев женщинами-комсомолками считаю нецелесообразной.
Поэтому женщин, предусмотренных по разнарядке для Мурманского дивизионного района ПВО, прошу не направлять, а наряд отменить.
Заместитель народного комиссара обороны
Генерал-лейтенант Громадин
Прибывших на Северный флот девушек назначали не только на штабные и канцелярские, снабженческие и медико-санитарные должности, но и на должности береговых связистов. На находившемся в Финском заливе острове Сальный рядом с маяком была установлена зенитная батарея, на которой служили комсомолки. Однажды к ним в гости решили отправиться на двух рыбачьих баркасах морские летчики, но сбились с курса и оказались не на острове, а в середине залива, откуда их забирали катера. Даже в суровые годы Великой Отечественной войны происходили свадьбы, после которых новобрачные отправлялись нести службу на море, в небе и на суше.
Девушки-бойцы 260-й бригады морской пехоты отличились в ходе боевой операции по очищению от неприятеля островов Тиурин-Сари и Койвисто. В первом же броске десанта участвовала старший краснофлотец, санинструктор Марта Бонжус, ушедшая на фронт в 17 лет в 1941 году. Под сильным огнем вражеской артиллерии она сумела оказать помощь 20 раненым бойцам и офицерам, а когда финны бросились в атаку, открыла по ним огонь из автомата. За этот подвиг Бонжус награждена орденом Отечественной войны II степени.
Другой боец медсанроты, Вера Знаменская, вынесла с поля боя и сумела оказать своевременную помощь 40 раненым бойцам и офицерам. Она награждена медалью «За боевые заслуги».
На митингах, прошедших на большинстве мурманских предприятий и учреждений, выступавшие призывали защищать Родину не только на фронте, но и в тылу, повысив трудовую дисциплину, бдительность в борьбе против вражеских шпионов, и повсеместно крепя обороноспособность страны. Конкретно это выражалось в удлинении трудового дня и замене на рабочих местах тех, кто уходил в действующую армию и на военно-морской флот. Во многих организациях приняли решение о передаче Красной армии и командованию флота средств связи, автотранспорта и других необходимых предметов. Среди переданного были не только грузовики, но и лошади, и телеги.
Война с первых дней коснулась и советских рыбаков. Как отмечает А. А. Киселёв, «Мурманск отдал Северному флоту и большую часть своих моряков. С первых дней войны ушли в Военно-Морской флот прославленные капитаны тралфлота – А. И. Стрельбицкий, К. Л. Бурков, Я. А. Гунин, П. П. Корехов, И. М. Титов и другие. Бывшие тралфлотовцы быстро научились стрелять из пушек и пулеметов, отражать атаки подводных лодок и авиации, уничтожать мины и нести дозорную службу. В состав Северного флота влилась также значительная часть моряков торгового флота. От причалов рыбного и торгового портов и днем и ночью отходили пароходы, катера, буксиры с баржами. Они везли на западный берег Кольского залива, к Полярному и на Рыбачий людские подкрепления, боеприпасы, продовольствие и фураж. На линии Мурманск, Озерко (на полуострове Рыбачий) постоянно курсировал буксирный пароход "Кола" под командованием З. И. Хабарова»[43 - Киселёв А. А. Мурманск – город-герой. – М.: Воениздат, 1988.].
Выступая 22 декабря 1941 года на объединенном пленуме обкома и Мурманского горкома партии с отчетом о перестройке жизни области на военный лад, Максим Иванович Старостин, первый секретарь Мурманского обкома партии и кандидат в члены ЦК ВКП(б), подчеркнул, что «…период перестройки советских и хозяйственных организаций на военный лад закончился к августу, когда все наши организации области вплотную занялись работой наших оставшихся предприятий, взяли все запасы на строгий учет, централизовав через обком партии и военные советы армии и флота их распределение, и всю свою работу подчинили обеспечению армии и военного флота, интересам организации разгрома врага…»[44 - Киселёв А. А., 1988.].
Бюро Мурманского обкома ВКП(б) 7 июля 1941 года приняло постановление «О состоянии агитационно-пропагандистской работы в партийных организациях города Мурманска в условиях войны», в котором выделило основные направления идеологической работы в военных условиях. Мурманский обком формировал агитационные коллективы, общее число агитаторов в которых достигало 2500 человек. Распределенные по производствам, домоуправлениям и общежитиям, они проводили агитацию работающих и живущих, охватывая своей деятельностью большую часть городского населения.
Для патриотического воспитания и воодушевления граждан на борьбу со смертельным врагом использовали газеты «Полярная правда» и «Комсомолец Заполярья», а также появившиеся в самом начале Великой Отечественной войны «Окна «Полярной правды» (в 1941–1942 годах вышло 43 выпуска этого издания). Помимо газет, на территории Мурманска печатали и распространяли патриотические листовки, призывающие бороться с врагом. Постоянно работал Мурманский радиокомитет.
22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о проведении специальных работ по строительству оборонительных сооружений на Северном фронте (в августе разделенном Ставкой на Ленинградский и Карельский фронты). Спустя две недели первый секретарь обкома ВКП(б) Г. П. Огородников докладывал наркому Лаврентию Берии, что на оборонительные работы в Мурманской области направлено 30 354 человека.
Оборонительные сооружения строили в основном женщины. Большинство отправились на строительство в конце лета сроком на две недели, но вернулись только поздней осенью, 4 ноября 1941 года. Некоторые, одетые не по сезону, живя в сырых землянках, заболели, другие, попав под бомбежки, были ранены или убиты. Но остальные труженицы, невзирая на тяжелые условия жизни и тяготы постоянной многочасовой физической работы, киркой и лопатой продолжали строить оборонительные сооружения.
В докладе аспирантки Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова Т. А. Санакиной «Вклад жителей Архангельской области в оборону страны в годы Великой Отечественной войны» на конференции «Научный православный взгляд на ложные исторические учения» приводятся следующие данные. «Главной задачей Архангельского военного округа стало готовить кадры офицеров, сержантов, солдат для пополнения действующих войск. За короткие сроки была налажена работа курсов и эвакуированных военных училищ. В их числе: Борисовское военно-инженерное училище (Архангельск), Ленинградское военно-строительное (Вельск), Архангельское военно-пулеметное (Архангельск. п. Цигломень), филиал высших курсов для переподготовки комсостава, курсы младших лейтенантов (Архангельск, Маймакса), военно-политическое училище, Петрозаводское пехотное училище и др. Были созданы ряд курсов по подготовке военно-морских специалистов, военно-воздушных, танковых, автомобильных и др.
В первые дни войны 7900 северян подали заявления с просьбой направить их в действующую армию. С 22 по 30 июня 1941 г. штаб округа занимался формированием на ст. Грязовец команд из призывников и отправкой эшелонов на фронт. На территории области было сформировано около 120 различных воинских подразделений: 3 стрелковые дивизии, 5 отдельных стрелковых и лыжных бригад, столько же отдельных полков, 105 подразделений обслуживания»[45 - Научный православный взгляд на ложные исторические учения. – М.: Русский издательский центр, 2013.].
Подвиг сторожевика «Туман»
10 августа 1941 года сторожевой корабль «Туман» обнаружил три германских эсминца из состава 6-й флотилии эсминцев кригсмарине – это были «Рихард Байцен», «Ганс Лоди», «Фридрих Экольд» – и передал донесение оперативному дежурному Северного флота. После этого «Туман» был расстрелян врагом, имевшим многократное превосходство в ходе и артиллерии. Сторожевик не сдался и затонул с поднятым флагом. В память об этом подвиге, проходя мимо острова Кильдин, корабли ВМФ приспускают флаги и дают протяжный гудок. В честь геройски погибшего сторожевика назвали новый сторожевой корабль «Туман». Спустя 20 лет после того неравного морского боя, 10 августа 1961 года, он прибыл на место, где в схватке с врагом погиб его предшественник, чтобы салютовать тому в знак вечной славы.
Впрочем, командующий Северным флотом с грустью констатировал, что в этой трагической истории проявилось еще и отсутствие привычки к ведению военных действий, к стремительной реакции на ситуацию, поскольку сначала с «Тумана» был замечен одиночный немецкий самолет – явно разведчик. «В двух предыдущих случаях появление вражеских эсминцев было предварено воздушной разведкой и совпадало по времени с нынешним случаем. Если бы сегодня мы учли это, если бы действовали быстрее, если бы все донесения были сделаны раньше, картина боя могла быть иной. Ибо где-где, а на войне время не ждет»[46 - Головко А. Г., 1979.], – писал Головко.
Первые «харрикейны»
Алексей Васёнов, сооснователь крупнейшей русскоязычной книжной социальной сети «Живая Библиотека» и платформы gorblog.org, специально для этой книги так характеризует обстановку, в которой начались тогда военные действия и появилась уникальная возможность для содружества СССР и Великобритании в борьбе с общим врагом: