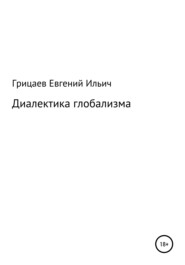 Полная версия
Полная версияДиалектика глобализма
Субъективность, как первейшая характеристика субъекта, этого «феноноумена», должна включать в себя не только «сферу субъективного» в виде мышления, ментальности, рефлексии, «сознания». Но и «сферу объективного». Хотя бы в виде объективных отборов, тенденций и направлений развития, самоорганизации. Причем, вместе со своими предикатами представленных общечеловеческих ценностей и чисто физико-физиологическими или телесными качествами субъекта. То есть, тем самым нацеливается на вид самость субъекта – то, чем он отличается от других и сосуществует в материальном мире. С другой стороны, сам материальный мир целесообразно рассматривать как объект с соответствующей объективностью в виде причин и принципов развития самого объекта. Перекосы субъективностей личностного глобализма во многом связаны с мировоззренческой разупрощенностью разума.
Диалектика субъективности утверждается принципами существования субъекта как субъективно-объективной целостности. Но не как некоего не вполне понятного атрибута материи. Например, сознание обычно рассматривается как наиболее «веское» орудие субъективности, зачастую, противопоставленное материи. Существующие концепции «квантового сознания» связывают материальные кванты с нелокальностью сознания. Насколько корректны такие установки? Ведь само сознание не может быть связано с материальным напрямую. Такое может происходить только через процесс развития, которые тормозится перекосами субъективности под влиянием идей трансгуманизма.
Значит, более корректно говорить не о статическом сознании, а о динамическом осознании – сознании в действии. Оно само есть процесс, захватывающий, как материализацию, так и дематериализацию. Просматривается более адекватный путь существования: от квантовости к процессам связи и развития. Этот путь во многом может быть представлен в качестве процесса диалектизации субъективности без субъективистских перекосов.
При этом неизбежно возникает проблема ментальности, рефлексии и смыслов. «Ментальные модусы» вряд ли следует причислять к «трансцендентной реальности». Это скорее качество рефлексии, которая стремится осмыслить вечно изменяющееся актуальное. Проявление так называемых «чистых смыслов» при вмешательстве в них объективности есть лишь вполне понятная тенденция к изменению имеющего «положения дел». Все это свидетельствует от неразрывной связи объективности и субъективности, необходимой для актуализации целостности субъекта, его помыслов и действий. Диалектизация субъективности становится с проявлением субъекта и «заканчивается» с его исчезновением в ходе дематериализации. Перекосы субъективности в ходе личностного глобализма, как правило, возникают со стороны искажений социетального глобализма.
Природа мышления не может быть пассивным модусом, как не может быть и функционалом субъективного. Необходимая диалектизация диктует неизбежность рассмотрения ментальности более широко, чем это бытийно делается, чем просто мышление. Это непрерывная связка субъективности действий и объективности их направленности. Поэтому объективная направленность глобализации в виде пресловутой самоорганизации не может тормозиться субъективными действиями «глубоко». В настоящее время такое, однако, происходит. Глобальный кризис умов – как перекос объективного – не может объясниться лишь частным субъективизмом. В нем задействован более мощный рычаг в виде воздействия сообщества на личностные субъективности. Такое происходит под влиянием современных глобалистов.
Наивно полагать, что «внерефлексивное содержание субъективного – это то, о чем мы не можем дать отчет, не имеем явного знания». Но разве знание может быть неявным относительно субъекта? Знание ли это, которое субъект не может актуализировать даже потенциально? Недаром ставится вопрос о возможном наличии в субъективном, помимо осознаваемого содержания, чего-то еще нефеноменального. Чего же? Конечно, процессного, функционального существования, поскольку непроцессного существования не может быть. Но «осознаваемое содержание» – это вовсе не связь целостности, «поиска развития с насущным». Развитие задается необходимостью субъективно-объективной связи, а не феноменализмом сознания, который можно было бы приравнивать к смыслам. Поэтому перекосы субъективности становятся при непременном участии неразумия целостности сообщества с его гражданами.
Субъективное включает в себя три компоненты по видам действия: первая – направленность развития, которая заложена на уровне диалектической прерывно-непрерывной связи; вторая – компонент биосферы с его законами живого организма и воздействием на подсознание; третья компонента – собственно осознание, идущее по линии биосоциальной связи. Именно последняя компонента, непосредственно связанная с актом восприятия и рефлексией субъективности далее должна рассматриваться как основной структурообразователь субъективности. Поскольку именно эта компонента фигурирует обычно в бытийном понимании вопроса. Поэтому осознание, прежде всего, подвержено воздействию идей «улучшения человека» со стороны трансгуманизма. В этом значительную роль играют средства массовой информации, подвластные сообществу.
Где же целостность, если все в субъективности проявлено или потенцировано на материальный лад? Развитие как последовательность целостностей (явлений), а не как процесс, закручивается в спираль, в «узловую цепь мер». Попытка представить бесконечность набором элементов – это уже не целостность, поскольку нет связи и развития. Да, любой поступок есть целостность, но как процесс связи непрерывного и дискретного, а не как некая субстанция имманентной или трансцендированной субъективности.
К сожалению, зачастую, имеет место субъективная политизация равновесия «Я»-«Не-Я». Субъективное явленное (политика) мешает объективному процессу диалектизации через капитальный отбор. Этот отбор мешает развитию общечеловеческих ценностей в виде грегарного отбора, подобно развитию физиологических ценностей в виде естественного отбора под действием внешних факторов. Собственно сам отбор обусловлен неизбежностью связи человека с обществом, субъективного с объективным, случайного с закономерным, прерывного с непрерывным. Важно то, что эти субъективные противоречия… объективны. Поэтому они сами направлены на созидание. Этим можно утверждать факт неизбежного недолгого по времени существования перекосов субъективностей. Объективная направленность заставит уважать себя.
Любое переживание субъекта представляет собой феноноумен. Нет, и не может быть «готовых» феноменов, которые могут действовать сами по себе. Иначе такой имманентный подход будет свидетельствовать об априористическом прагматизме. Подобное реализуется в идеях о «Великой перезагрузки». В этом случае процесс связи или развития субъективности снова и снова выдается за материальный результат. Хотя это явный искусственно созданный перекос личностной субъективности. Переживание осмысливается и становится через смысл глагольного существования надиндивидуального бытия. Но не через трансцендентное «предчувствование готовности».
Переживание становится именно феноменом, а не «нейтральным знанием» –
не вследствие возможности актуализации, а как актуализация возможного. То есть, как развитие связки ментального и чувственного в субъективности. Однако это «возможное» вырисовывается и готовится в сложных процессах ментального моделирования и уравновешивания осмысленности осознанием. Бывает так, что равновесие в условиях надиндивидуального бытия оказывается сдвинутым далеко в «сторону» материализации. Тогда оказываются возможными поспешные и необдуманные поступки, вредящие субъекту, которые следует рассматривать как негативные моменты личностного глобализма. Моменты перекоса, которые надлежит устранять разумными действиями, в том числе действиями антиглобализма.
5.2. Аффекты глобализма
Аффекты глобализма связаны, прежде всего, с аффектами субъективностей, главным образом личностной субъективности. Корреляты аффектации субъективности обычно проявляются на фоне искажения или возмущения связи «Я» – «Не-Я». Чаще это происходит из-за нарушения ментальных равновесий и глагольных модусов. Иногда, как в случае в эмоциональных перегрузок, из-за того, что осознание «останавливается» перед барьером аффектации. В случае процесса воления могут иметь место неадекватные действия, которые, очевидно, следует считать не нарушением «свободы воли» или «самодетерминации субъективного». Это, скорее, несоответствие модели ментального континуума реальным возможностям ее актуализации со стороны субъекта.
В таком случае само «воление» необходимо рассматривать не как акт проявления «насадной» воли с ее «несвободой» перед личностным глобализмом. Последний образец не преследует цель «заставить работать» сферу субъективного по определенному непосильному сценарию. Это обычный процесс материализации при развитии связи процесса объективного с субъективной сферой. Поэтому использование термина «свобода воли» лишено смысла, так же как и «самодетерминация субъективного». Что это за «самодетерминация», если она приводит к аффективным процессам?
Таким образом, прослеживается связь аффектации со случайным воздействием, как со стороны внешней среды, так и из-за ошибок осознания субъекта. Так же происходит возмущение связи «Я» – «Не-Я» в ходе личностного глобализма. Это три основных коррелята глагольной аффектации субъективности поступков субъекта. В первом случае имеет место обусловленности аффектации непрерывно изменяющимся потоком обстоятельств. Его невозможно доподлинно учесть дискретностями сферы субъективности. Это объективный фактор, мало зависящий от самого субъекта.
Во втором случае чаще всего происходит субъективное торможение осознания из-за недостаточности ментальной «составляющей» субъективности. При этом осознание неадекватно оценивает обстановку, вернее: не успевает ее достаточно полно оценить. В результате такого эксцесса эмоциональная сфера перегружается. В третьем случае имеет место волевое воздействие на ментальные модусы со стороны субъекта с аффективным результатом. В этом случае сказывается проявление «парадокса свободы воли». Тогда субъект нарочито не хочет учитывать ментальные модели действий, а сам принимает, зачастую, несуразные решения «свободной воли». На этом во многом основаны идеи глобалистов.
Одним из коррелятов аффектации субъективности служит то обстоятельство, что наша «самость» подчиняется не только собственным закономерностям развития. Самость в общем порядке не связана с алгоритмами функционирования процессных «законов», их математической невычислимостью (Р. Пенроуз, 1989). Например, объективные отборы действуют изнутри субъекта, это вовсе не «внешние сверхчувственные процессы». Они действуют как Микрокосмы нулевого порядка, обуславливая самоорганизацию в виде личностной субъективности. А так же связанных с ней неизбежных случайных возмущений коррекции связей, ведущих к аффектации. Большинство аффектов детерминируется не нашим «Я» или нашей самостью, а связкой «Я» – «Не-Я», которая и выражает пресловутую «самость». Она в особенности уязвима к информационным воздействиям трансгуманистов.
Выбор оптимального варианта действий отнюдь не связан с нашим волением. Наоборот, оно зависит от становления глагольных ментальных модусов. Модуляция выбора неизбежно порождает случайности «перехода» непрерывности в дискретность. Смысл эмоциональных переживаний, в том числе ряда аффектации, как уже отмечалось, лежит в плоскости необходимости существования. Это вызывает подготовку, готовность к действиям и развитие самих процессов аффектации. В результате субъективность может изменяться до неузнаваемости серьезными перекосами равновесия «Я» – «Не-Я». В этом случае можно утверждать, что аффекты не связаны с пресловутыми «механизмами саморегуляции» со стороны личностного глобализма. Они несколько обусловлены безусловными инстинктивными рефлексами, хотя сами они имеют вторичную природу исполнителей. Первичное обычно выражается в процессах ментального «обустройства» субъективности.
Рассмотрим вопрос отличия аффектации от воления в ходе воздействия личностного глобализма. Они различаются лишь результатом случайной неучтенности. В идеальном случае субъект, учитывающий в ментальных моделях фактор случайности, лишен аффектации. Но для этого необходимо хотя бы приближенное знание диалектических смыслов существования. В том числе адекватное осознание обстановки во внешней среде – обстоятельств, которые могут искажать рассматриваемую модель. Субъекту на все эти оценки «отводятся» доли секунды, поэтому это выглядит как недостижимый абсолют.
Однако этот случай, зачастую, имеет место в случае воления, когда субъект пытается навязать свою волю. Подобное происходит в случае реализации идей глобалистов. Это не всегда удается, тогда результат такого воления трансформируется в процесс аффектации. Субъект оказывается не готовым к случившимся обстоятельствам. Такие воления могут служить первичной причиной эмоциональных срывов и аффектации, даже помимо действия случайных факторов. Вторичные эмоциональные переживания («память прошлого») обычно основаны на законченном осознании. Поэтому они обычно не приводят к аффектации. Зато они могут приводить к сочувствию и состраданию – к этим качествам человечности в субъективности личности. Этим следует пользоваться современным антиглобалистам.
Выбор той или иной модели сиюминутного поведения неизбежно связан с возможностью аффектации – как недооценки своих субъективных возможностей. Сам факт выбора определяет коррелят аффектации. Однако процесс разумного выбора из континуума ментальных образов и модусов не связан с известным механизмом ответа на направленность со стороны личностного глобализма. Он связан с двумя «составляющими»: «свободным импульсом, исходящим из нашей самости» и «внешними механизмами самодетерминации». Здесь необходимо отметить, что вывод об иррациональности обеих «составляющих» процесса выбора при аффектации лишен смысла. Такое имеет место уже потому, что в этом случае главенствуют не механизмы самости или самодетерминации, а воздействие случайности как диалектической необходимости того, «что должно быть».
Если мы ставим эмоции в зависимость от действий и считаем, что только последние определяют эмоции и аффекты, то мы впадаем в материалистическую зависимость. Лишенная этого недостатка теория Джемса-Ланге отождествляет эмоции и аффекты с чувственным. Однако эта теория не объясняет причин такой тождественности. Она кроется в диалектическом подходе к механизмам аффектации как глагольным модусам ментальности, неадекватно связанным с процессом осознания субъекта. Тогда эмоция тождественна чувствам только в процессе развития связки «Я» – «Не-Я». Тогда же становится понятным то сопряжение ментальных модусов с чувственными переживаниями – поскольку они существуют в единой целостности.
Еще одним коррелятом аффектации субъективности можно считать аксиологический фактор ментальных несоответствий субъективности общечеловеческим ценностям. Этот коррелят теснейшим образом примыкает к нравственному аспекту актуализации субъективности, который так же задействован в диалектическом механизме балансировки равновесия «Я» – «Не-Я». Если субъект не находит в ментальных образах и модусах ничего более достойного для себя, что касается его самости, чем непринятие общечеловеческих ценностей, он пускается во все тяжкие. В этом отношении многие несоматические болезни могут считаться результатом ценностной аффектации. Подобным образом могут действовать попытки ценностных искажений со стороны трансгуманизма.
«Разумные основания» (почти по П. Абеляру) требуют разума в действиях и умах основной массы населения. Может быть, от этого зависит будущее человеческой цивилизации. Личностный глобализм характеризуется материальным интересом и имеет яркое проявление в виде капитального отбора (расчеловечивания). Вред от глобализма становится в результате плохого усвоения уроков истории и недостаточного осознавания направленности самоорганизации природы и сообщества. Низшая форма осознания человека – инстинкты, высшая – осознание этих инстинктов. Когда нет реальных аргументов в споре, выдумывается сказка, которая может выглядеть убедительно, поскольку иного выхода не находится или его нет вовсе. Когда человек думает, быть или не быть, тогда жизнь кажется ему ошибкой. Тогда появляется нечто сверхъестественное. Ведь там, где нет бога, там появляется дьявол. Цена доверия, так или иначе, выливается в веру. Но веру превратную. Что же мы тогда хотим от личностного глобализма? У человека всегда есть альтернатива выбора. Жаль, что так уж часто он не успевает ее осознать.
Если разрывается хотя бы одно звено в цепях связи и развития, субъект не может существовать, его целостность как феноноумена нарушается. Понятно, что этому должны предшествовать существенные искажения субъективно-объективных равновесий. Главным образом, ментальных равновесий в связке: осмысление-осознание. Поэтому бытийные случаи бессознательного обязательно связаны с нарушениями в цепях связи представленных потоков. Будь то бессознательность сна, гипнотическая прострация или наркотический кошмар. Отметим, что к бессознательной аффектации целесообразно причислять зомбирование со стороны средств массовой информации. Без указаний на ее источник, оно есть следствие внешней «обработки» субъективности с внесением в нее элементов аффектации. Такая обработка характерна для трансгуманистических веяний.
К сожалению, в последнее время в сообществе постоянно имеет место субъективная политизация равновесия «Я»– «Не-Я». Субъективное явленное (политика) мешает объективному процессу диалектизации через капитальный отбор. Этот отбор мешает развитию общечеловеческих ценностей в виде грегарного отбора, подобно развитию физиологических ценностей в виде естественного отбора под действием внешних факторов. Собственно сам отбор обусловлен неизбежностью связи человека с обществом, субъективного с объективным, случайного с закономерным, прерывного с непрерывным. Эти субъективные противоречия… объективны. Это не противоречия субъективности, а недостатки ее диалектизации, в том числе на уровне социума и его связей с субъектами. Они исходят из искажений личностного глобализма разумного или неразумного толка.
Причины глобального кризиса, все более захватывающие области человеческого существования, во многом кроятся в объективно направленном равновесии развития. Они сидят в голове человека в виде преобладания материального интереса и недостатка духовности, который приводит к смещению этого равновесия в сторону элементарного прагматизма. Возникает вопрос: как быть со становлением субъективности при этом? Субъективность это, прежде всего духовность, выраженная материальным образом общечеловеческого порядка.
Духовность предусматривает разумное видение будущего – направленность процесса развития в сторону материализации. Но все это основано на конструктивной связи с прошлым – с общечеловеческими ценностями, накопленными и развитыми предыдущими поколениями людей. Однако это и свойство настоящего, это сама жизнь, преломленная через призму истории, в виде непрерывной диалектизации и активного развития общества в этой связи. Активность обусловлена направленностью личностного глобализма на созидание бытия.
Аффективность как когнитивное свойство субъективности проявляется обычно в реалиях в виде так называемой «ментальной фальши». Тогда осознание вынужденно искажает должный «зигзаг развития» субъекта, несмотря на «требование» выбора рефлексии. Причина тому – существенное, если не катастрофическое, несоответствие между представленными и усвоенными общечеловеческими ценностями. Подмена истинных ценностей суррогатами характерна для деяний современных глобалистов. Аффективность обычно вредит субъекту. Но чаще такому субъекту, который хитрит и преступает нравственные устои, пытаясь обмануть самого себя, давая заведомо неадекватные установки своему осознанию. В этом отношении глобалистов и трансгуманистов ждет незавидная участь обычных преступников.
Аффектация глобализма как выражение случайности представляется флуктуациями и нелинейностью внешней самоорганизации. Точечные взаимодействия пронизывают все и вся. Неизбежность аффектации точечного глобализма происходит вследствие недостаточной формализации непрерывного дискретным в ходе материализации. В конечном счете, она выливается в изменения личностного глобализма, где они приобретают картины когнитивных дефиниций. Правда, это не есть патология, а лишь малосущественный, случайный дрейф вдоль тренда внутренней самоорганизации.
Аффективность структурного глобализма за счет обязательных дефектов в ходе структурных взаимодействий выливается в стереохимические изменения генетических эволюционных кодов. Это так же обычное явление, феномен существования личностной субъективности, когда неизбежные флуктуации развития направляются вдоль тренда внешней самоорганизации.
Аффектация социетального глобализма носит преимущественно характер соразвития с личностным глобализмом по линии биосоциальной связи. Это обуславливает в основном развитие внутренней самоорганизации, которая направляет личностную субъективность и определяет действия. Таким образом, имеет место суперпозиция аффектаций глобализма в виде постоянного воздействия на личностную субъективность. Подобное определяет в конечном виде тот потенциал внешнего влияния, который актуализируется в действия личности – в то, «что будет» с учетом того, «что должно быть».
Сами действия, несомненно, несут отпечаток внешне-внутренней самоорганизации, усваиваются как ценности. Но последнее слово остается за самой личностью, которая устанавливает непосредственно, как действовать на основании представленных ценностей: «что делать» и «зачем делать». Поэтому «что должно быть» никогда не достигается и остается «вещью в себе». Однако это нормальный итог сосуществования человеческой системы сил и направленностей в виде личностного глобализма с ее аффектацией уже под влиянием внутренней самоорганизации.
5.3. Диалектика образования – самообразование
«Без веры нет знания, нет истины» (Августин Аврелий). Но вера должна быть разумной, тем более что истины сокрыты в разумном будущем образования. Самопознание фигурирует в каждом шаге человеческом, иначе этот шаг становится просто бессмысленным. Самопознание это процесс познания не себя, а людей. Образование это формирование человеческого образа по подобию окружающие личность людей. Но не набивание головы учащегося всякими «знаниями». Кризис образования последних лет тесно сочетается с потерей смысла жизни многими людьми. Такое положение – «заслуга» не личностного глобализма, а его извращения глобалистами с упованием на новейшие достижения телекоммуникационного бума. Так или иначе, диалектика образования должна приводить к мировоззренческим сдвигам в осознании личностями истинного положения вещей.
Субъект самообразования воспроизводит собственную целостность не только в рациональности или через личностное (неявное, нерефлексивное) знание, но и в применении этого сотворческого знания. Личностное знание скорее несрефлексированное, нежели нерефлексивное, но оно обязательно рефлексируется и выливается в поступок. Интуитивное само развивается через рефлексию, но на фоне достаточной духовности личности. Это есть связка материального и духовного, которую пытаются разорвать современные глобалисты. Их идеи по «улучшению человека» противоречат активной роли личности в социетальном существовании. В том числе в наступлении самообразования, образования в действии – на извращения человечности со стороны трансгуманизма.
Еще Михаил Бахтин высказывал мысль, что «настоящим предметом является взаимоотношение духов». Но этот предмет – процессное «образование», то есть самообразование. В самообразовании «Я – для себя» и «Я – для других» активно взаимодействуют. Это есть «два духа»: дух субъективный и дух объективный. Чужие сознания нельзя созерцать или анализировать, поскольку это целостность, процесс, а его невозможно «раскладывать по полочкам». Но с ними можно вести диалог, иначе «они поворачиваются к нам обратной стороной». Почему так? Да потому что нельзя отрывать дух от тела, ведь это процесс, который невозможно установить до конца в принципе.
Можно определять самообразование как способ индивидуальной и групповой саморегуляции знаний. Причем, с определенной эффективностью, как «мерой соответствия стратегии самореализации личности развитию социального целого». Но как определить эту меру соответствия, без знания направленности процесса связи, если она представляет собой динамическое равновесие материального и духовного? Ведь не только образования не может быть без самообразования, но и наоборот, поскольку они находятся в диалектической связи. Они выступают в качестве целостности основного инструмента очеловечивания, то есть процесса грегарного отбора.
Некорректно говорить об образовании как о социальном институте по воспроизводству и трансляции знаний, по передаче знаний от одного человека к другим. Это означает разрыв процесса связи материального и духовного. А они неразделимы и выливаются в процесс деятельности. Каждый человек не может самостоятельно определять пути саморазвития – воздействие общества и объективных отборов никак не обойти. Можно вести речь только об оптимизации равновесия между ними. А для этого необходимо знать смысл, траекторию его развития, которую определяет личностный глобализм. Определяет, но без человека не решает.

