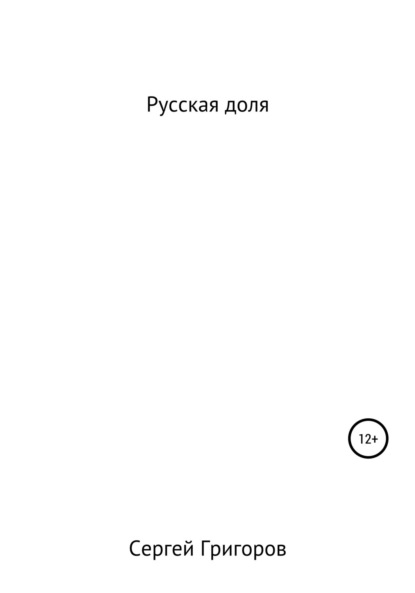 Полная версия
Полная версияРусская доля
Так почему в конце девятого века на Восточно-Европейской равнине все же образовалось единое крупное государство?
Причины, скорее всего, были чисто внешние.
Экономические? Любимая конструкция историков – «путь из варяг в греки». Следуя их логике, Древнерусское государство возникло для охраны торговых потоков из Северной Европы в Константинополь, Хорезм и обратно. Право дело, для малолетних детей придумываются более правдоподобные сказки. Или я чего-то не понимаю? Ответьте мне, тупому, только на один вопрос: что в первом тысячелетии нашей эры дикая, нищая и почти безлюдная Скандинавия могла предложить евразийскому рынку? Разве что селедку. А сейчас для полноты ощущений представьте себе аксакала, сидящего в сорокаградусную жару под чинарой и заедающего среднеазиатскую дыню заморским деликатесом – ржавой соленой рыбой, протухшей в дальней дороге. Представили? Какой вывод следует? Осмелюсь сформулировать: не вешайте нам, господа историки, на уши лапшу! никогда никакого пути из варяг в греки не было!
Речное судоходство – было. Волоки меж рек – были. Многочисленные города Восточно-Европейской равнины – торговали с Югом и Севером. Варяжские гости – были. Вплоть до начала двадцатого века у скандинавов существовал обычай отправляться за особо качественным товаром… в Россию. Но не далее. Поэтому не было торгового пути через русскую территорию, и глупо на несуществующем месте замышлять исток образования в девятом веке единого русского государства.
Остается только одна причина – внешняя военная опасность.
Действительно, в ту пору на севере зачастили русским в гости викинги, известные своими разбойничьими повадками и терроризирующие всю Западную Европу. На юго-востоке набрала силу и агрессивность Хазария, перерезавшая налаженные торговые пути на азиатские рынки и организующая один разбойничий поход на русские земли за другим.
Создание единого государства сразу сняло проблему викингов: на наших землях перестали они заглядывать на чужое добро. Русские князья часто набирали в Скандинавии наемников. Однако летописи пестрят описанием случаев, когда местное население чуть что указывало иноземцам их место – у ноги позвавшего их князя, и ни шагу в сторону, быть ниже травы и тише воды. Почему викинги безнаказанно грабили Западную Европу и Северную Африку, а на Руси чувствовали себя ягнятами в окружении волков? Одна из причин, видимо, в том, что с молоком матери впитывали они древнее уложение о доминировании русичей. Кроме того, их воинская выучка и, главное, вооружение не превосходили русское. Известно, что в те времена мечи и доспехи поступали в Северную Европу в основном из Господина Великого Новгорода. Для себя-то кольчужку клепали поди получше, чем предназначаемую для продажи.
С хищником на юго-востоке справиться оказалось труднее.
Доблестный тюркоязычный хазарский народ, снискавший великую воинскую славу в противостоянии с мусульманским давлением с юга, во второй половине девятого века лег под Даново, самое морально неустойчивое, антихристовое из колен Израилевых. Вождям степных богатырей навязали в жены иудеек. Сыновья их, естественно, исповедовали иудаизм и всю торговлю в каганате отдали на откуп многочисленным родственникам по материнской линии. Единый в недалеком прошлом народ разделился на «белую кость» – тех, кто руководил, держал таможню, взимал налоги и торговал, и на «черную» – тех, кто придерживался веры отцов и занимался производительным трудом. Армия стала полностью наемной и постоянно искала возможность пограбить кого-нибудь.
Жить бок о бок с таким соседом ни у кого б не хватило терпения. Вот только один случай. В 913 году русское войско на пятистах (сколько ж воинов было?!) судах мирно спустилось, как обычно, по Волге и набрав сверх всякой меры добычу в мусульманских землях, двинулось обратно. Правительство Хазарии по устоявшейся традиции уверило, что беспрепятственно пропускает перегруженный флот, но организовало неожиданное, предательское нападение на усталых путников. Русичи были разбиты и рассеяны. Оставшиеся в живых бежали, бросив все добытое в честном разбое добро. Разве можно после подобной подлости о чем-либо разговаривать с каганатом? Оставалось одно: показательно отомстить.
Вещий Олег и Игорь Рюрикович укрепили рубежи русской державы, препятствуя разбойным нападениям с юго-востока. Сделать больше не смогли, так как много сил ушло на разборки с новой напастью – пришедшими с востока печенегами. Только при Святославе Игоревиче Хазарский каганат растерли в прах. Тогда же была побеждена Камская Булгария и осажены прочие кочевые народы юга Восточно-Европейской равнины и Закаспийских степей. Явных врагов у Киевской Руси не осталось, и встал вопрос что делать дальше. Упиваются достигнутым только недальновидные политики, будущие неудачники. Новое государство надо было консолидировать, определиться со стратегией дальнейшего развития. Но какие ориентиры для этого принять, было не ясно. Ответ на сакраментальное «что делать?» искался весь недолгий период правления Святослава, с 964 по 972 год.
Собственно говоря, было всего две альтернативы.
Первая – способствование развитию естественно появившейся атрибутики нового единого государства, унификация органов управления, налаживание прочных хозяйственных связей между удаленными регионами страны. Для создания общегосударственной идеологии требовалось введение религии нового типа, не «размазанной» по множеству божков, – шаг, решиться на который мог далеко не каждый.
Вторая – воспользоваться какой-нибудь существующей государственной системой, со временем распространив ее на всю страну. Для этого необходимо было опереться на какой-либо центр, способный конкурировать с Киевом и Новгородом, и сделать его столицей.
С высоты наших лет представляется, что Святослав Игоревич был прекрасным воином, но никудышным политиком. Он принял неверное решение: сделать столицей своего растущего государства сам Константинополь. В 968 году во главе отборной шестидесятитысячной армии он выступает в поход на Дунай, оккупирует Болгарию, ставит на ее трон своего человека и готовится штурмовать столицу Византийской империи.
В критический момент истории у Константинополя находятся силы выстоять под натиском русичей. Новый император, Иоанн Цимисхий, собирает в кулак всю военную силу и переходит в наступление. Предыдущие контакты с византийцами и произошедшие кровопролитные сражения позволяют Святославу понять свою ошибку: старая империя слишком сильна, чтобы покориться. И при этом слишком изощренна и развратна, чтобы стать консолидирующим центром русского государства.
Признав принятую стратегию государственного строительства неправильной, в 972 году Святослав Игоревич заключает с Византией мирный договор. Показательно, что в нем даже не упоминается вопрос о пересмотре действующего порядка обслуживания в Константинополе русских путешественников. Речь идет только об обещании Святослава не нападать на страну греческую, Корсунскую и болгарскую и о возможной военной помощи Константинополю. Византийцы же обязались не только снабдить Святославово воинство всем необходимым для обратного пути, но и выплатить приличные отступные.
До наших дней дошли греческие рукописи, повествующие о той войне. Если не обращать внимания на всегда присутствующую в подобных случаях тенденциозность, поражаешься пренебрежительным отношением Святослава к византийцам. Достаточно отметить, что разговаривал с Цимисхием он сидя в лодке, нисколько не напрягая голос. Смоделируйте мысленно ситуацию – как вынужден был вести себя византийский император на переговорах? Конечно, он подошел к самой кромке воды и стоя выслушивал русского князя как нашкодивший двоечник строгого учителя.
Решив идти другим путем, Святослав, как всегда, начал действовать стремительно. Но судьба все равно не дала ему возможности исправиться. Работа над ошибками практикуется только в школе, для детей. В мире взрослых для этого, как правило, не хватает времени. В том же 972 году Святослав Игоревич, возвращаясь в Киев впереди прославленного войска, у Днепровских порогов был убит печенегами.
Князь погиб, но дела его остались, и появилась наконец-то ясность, что делать.
Так когда образовалось древнерусское государство? В 882 ли году? Вероятно, более правильно было бы сказать, что государственность на всех русских землях возникла давным-давно, возможно, задолго до начала нашей эры, но получила юридическое закрепление только под занавес девятого века.
Расцвет Киевского государства
После гибели отца Владимир Святославович, сев на киевский трон в результате недолгой борьбы с ближайшими конкурентами, вначале вынужден был вновь заняться замирением кочевых орд. В недрах бескрайней Азии закопошились «рыжеволосые» – половцы, нацелились идти на запад и принялись поддавливать народы, пришедшие в Причерноморье ранее. Для вразумления степных бродяг пришлось совершить несколько победоносных походов. Заодно окончательно добить хазар. У камских булгар в очередной раз были вырваны зубы, после чего с ними был заключен мирный договор, дотошно выполняемый подписавшими его сторонами более столетия.
Наступил мир. Росли города, распахивались новые земли, расцветали ремесла, налаживалась торговля, развивалась система образовательных учреждений для производства государственных чиновников. Надо признать, что особенности русского национального характера приветствуют только неспешные эволюционные, происходящие как бы «сами по себе» изменения образа жизни. Бурные перемены не для нас. До сегодняшних дней дошли строчки о том, что матери, провожая своих детей в государственную школу, оплакивали их как идущих на смерть.
Укрепление народного единства требовало принятия единой веры, и в 988 году Владимир Святославович, прозванный Ясным Солнышком, крестил Русь. Тем самым система власти растущего русского государства получила надежную идеологическую подпорку. После Никейского собора христианство, а православие в особенности, увидело в государстве много хорошего, главное – хранителя порядка.
Расцвет древнерусского государства пришелся на период с 1015 по 1054 год, когда во главе страны находился Ярослав Мудрый, сын Владимира Святославовича.
Киев конца десятого-начала одиннадцатого века был много крупнее любого западноевропейского города и вряд ли в чем-то уступал Константинополю. Одних церквей в нем, согласно Лаврентьевской летописи, насчитывалось до шестисот. Рядом с Киевской Софией стоял более величественный Десятинный храм, краеугольный камень которого был заложен лично Владимиром Святославовичем. Эта жемчужина архитектуры была разрушена при взятии города Батыем.
При строительстве городских зданий широко применяли мрамор, добываемый в окрестностях Константинополя. Громадные каменные глыбы везли через Черное море, перегружали на речные суда и тянули вверх по Днепру, до порогов. Потом волокли по суше, до камнерезных заводов. Искусство русских мастеров-строителей славилось по всему миру, и, например, самые знаменитые старые церкви Абхазии имеют сходство с Черниговским Спасским собором.
Доминирующее положение Киевской Руси в тогдашней Европе не вызывает сомнений. Ярослав Владимирович находился в родственных связях фактически со всеми европейскими царствующими домами – Франции, Англии, Германии, Польши, Скандинавии, Венгрии и Византии. Жена его, Ингигерда, была дочерью шведского короля, и многие искатели приключений из Сконии рвались послужить щедрому русскому князю. Анна, дочь Ярослава, была замужем за французским королем Генрихом Первым и активно участвовала в политической жизни Европы. После смерти мужа была регентом Франции при своем малолетнем сыне, Филиппе. Внучка Ярослава была замужем за главой Священной Римской империи германской нации Генрихом Четвертым. Внук Ярослава, Владимир Мономах, женился на дочери последнего англосаксонского короля Англии – Гите Гарольдовне.
При дворе Ярослава долго жил изгнанник из своего королевства Олаф Норвежский, сын которого с русской помощью возвратил престол предков. Нашли приют сыновья Эдвин и Эдуард английского короля Эдмунда Железный Бок, выгнанные из Англии датским конунгом Канутом.
Особо хочется сказать об одном известном викинге, прославленном воине и знаменитом поэте или, как говорят ныне, популярном барде – о Гаральде. Длительное время он проживал в Киеве и после завидных любовных треволнений женился на русской принцессе Елизавете Ярославне. Победоносные походы в Сицилию и Италию прославили его на весь христианский мир. Стал королем Норвегии, но мечтал о большем: объединить под одним скипетром весь северо-запад Европы. Уже после смерти Ярослава, в 1066 году, в союзе с нормандским герцогом Вильгельмом он подготовил вторжение в Англию.
Гаральд, воспитывающийся в Киеве, был русским по мироощущению, а потому отличался рыцарственным благородством. Ему и в голову не могло прийти, что непреодолимые препятствия не позволят Вильгельму в условленное время высадиться в Англии. Сам-то он когда положено добрался да английских берегов несмотря на сильные осенние бури и встречные ветры. Здесь ждала его обидная, первая и последняя в жизни неудача. Все англосаксонское войско скопом набросилось на его дружину, изнеможенную борьбой с морскими стихиями. В завязавшемся многодневном сражении Гаральд геройски пал, после чего армия его разбежалась.
Как только известие о гибели норвежского короля докатилось до Нормандии, непреодолимые препятствия чудом исчезли, и Вильгельм с пятнадцатитысячным войском переплыл Ла-Манш. По обыкновению англосаксы кинулись им навстречу, но значительные потери в живой силе, понесенные в предыдущих битвах, фатально ослабили их. К тому ж несколько ненастных дней в непрерывных бегах по бездорожью, без нормальной пищи и крова над головой, с растертым до крови телом от неснимаемых боевых доспехов… Вильгельмово воинство победило, а его предводитель получил почетное прозвище «завоеватель» и английскую корону.
Где-то, кстати, попадалось утверждение, что доблестный рыцарь Айвенго был потомком русского витязя, приданного Ярославом Мудрым телохранителем своей дочери, Елизавете. Предок Айвенго отправился с Гаральдом на поиски приключений и после гибели норвежского короля примкнул к Вильгельму. Настоящее имя доблестного рыцаря Иван, родовое прозвище – до фамилий тогда еще не додумались – ныне считается нецензурным. Гипотеза кажется правдоподобной. Однако не стоит уделять ей много внимания: с точки зрения мировой истории судьба одного человека и даже целого рода мало что значит. Важнее взять на заметку, что вся пирамида английских королей и королев, начинающаяся с Вильгельма Первого, стоит на низком предательстве и изощренном коварстве. Но разве могло быть иначе?
А на чем держалось Русское государство, чем скреплялось оно изнутри?
Стержень государственного устройства
Выше прозвучало «когда во главе страны находился Ярослав Мудрый». Не совсем точно. При Ярославе самостийным правителем Тмутаракани и Черниговской земли был его брат, Мстислав. Только после смерти бездетного Мстислава эти области перешли под центральное управление. Однако Полоцком с прилегающими районами владел Брячислав, племянник Ярослава, формально независимый от него. В 1036 году между профессиональным воинством Киева и Полоцка возник какой-то неясный конфликт, в результате которого высшая справедливость потребовала передать Брячиславу также города Усвят и Витебск – при том, что военная мощь Ярослава была на порядок выше.
Ранее степень подчиненности многих областей киевским властям также была, мягко говоря, неопределенной. На заключении всех договоров Руси с Византией присутствовали представительные делегации русских. Почти все публичные фигуры Восточно-Европейской равнины посылали в Константинополь по этому поводу своих посланников. Те подписывались: вместе с тем-то от имени такого-то. Заметьте: вместе с князем, а не под ним! Такое возможно только при добровольном – не по принуждению! – присоединении к личности, стоящей во главе государства. Насколько обязательна была эта добровольность, сохранившиеся исторические источники умалчивают. Во все времена вещи, кажущиеся очевидными, опускаются – что о них говорить, коли и так все ясно?
Летописи пестрят описаниями «закабаления», наложения дани на отдельные племена и народы. Но вдумайтесь в величину требуемого: шкурка белки с семьи («с дыма»), редко – шкурка лисицы. В те времена добыть белку можно было в полчаса. С лисицей, конечно, больше возни, но за полдня всегда управишься. Следовательно, не может быть даже речи о какой-то там насильственной эксплуатации жителей Восточно-Европейской равнины. Что же получается? Свободное общение свободно проживающих людей – не парадокс ли?
Ярослав, как до этого его отец, а до Владимира – Игорь, до Игоря – Олег, «рассадил» для правления по русским городам своих сыновей и других ближайших родственников. Обычай весьма распространенный в древности. Карл Великий, например, франкский император, в добром уме и здравии многих своих отпрысков произвел в короли.
Ярославу наследовали пять сыновей. Старший из них, Изяслав, князь Киевский и Новгородский, не сумел удержать в узде младших братьев, опустился до равного среди равных и потихоньку растерял политическое влияние. Страна формально разъединилась на отдельные княжества. Русские князья отличались плодовитостью, и со временем образовалось их неперечислимое множество, раздробление государства продолжилось. Однако стоило среди них появиться выдающейся личности, так властные полномочия его стремительно разрастались в пространстве. Владимир Мономах, например, вновь объединил практически все русские земли. Но детишки его опять разбежались по отдельным уделам. Вроде бы ничего сверхъестественного. Однако поражает удивительная легкость перемещений князей из одного удела в другой, а также полная свобода передвижения жителей по всей территории государства.
Рационально мыслящий человек вмиг насторожился бы, прослышав про упомянутые особенности Древнерусского государства. Здравый смысл, однако, маститым историкам не указ, и они искусно укладывали жизнь народов Восточно-Европейской равнины в прокрустово ложе западноевропейского или азиатского феодального раздробления. С точки зрения системного аналитика, это в корне неправильно.
В качестве косвенного подтверждения сохранения Русью скрытого единства можно считать то, что разделение страны на уделы, по совпадающему мнению большинства историков, не сказалось на жизни народа. Отсутствовали охраняемые границы и таможенные барьеры между областями, и русские люди без препон общались друг с другом. Вооруженные столкновения? Случались недоразумения, однако со средневековой точки зрения абсолютно бескровные – количество жертв исчислялось в худшем случае парой-другой десятков профессиональных воинов. Народное ополчение собиралось крайне редко, еще реже вступало в бой. А по поводу грабежей мирного населения торжествующими вояками наши летописи предельно скупы.
Особый разговор – о юриспруденции. Нигде и никто на Руси не увлекался собственным законотворчеством, и действующие в разных областях страны юридические нормы были одинаковыми. При Ярославе древние правила народного общежития были переведены на язык того времени и издан рукописный свод законов – так называемая Ярославова Правда. Лингвисты насчитывают в ней несколько «пластов», самые старые из которых относятся к эпохе существования еще индоевропейской общности.
Вероятно, не было настоящего, в европейском смысле этого слова раскола страны несмотря на то, что внешнего врага рассеяли, и у различных областей выявились собственные интересы. Правильнее говорить о том, что единое русское государство никуда не девалось, просто изменилась структура органов управления. «Нутро» же его оставалось неизменным.
Ни для кого не секрет, что роль общественного образования под названием «государство» в жизни народов чрезвычайно важна. Существует великое множество разъяснений, что это за целостность. Трудами выдающихся мыслителей всего человечества создана поистине неисчерпаемая библиотека всевозможных изданий и трактатов о государстве. Системный аналитик, правда, в каждом из них найдет несуразности, как свинья грязь. Но не будем увлекаться критикой.
Отметим лишь, что Жан Жак Руссо под государством понимал общественный договор, а Иван Ильин – большую семью либо корпорацию. У марксистов же государство есть механизм эксплуатации трудящихся масс. Не совсем точные формулировки, не та глубина.
Подобно прочим естественным, то есть никем не придуманным общественным реалиям, государство есть отражение человеческой природы. Основывается оно на особом, неотъемлемом духовном качестве человека, для названия которого больше всего подходит слово служение, как бы ни было оно замызгано. Это некая форма, инструмент упорядочивания, создания набора стандартов для отношений между людьми. Организуя общество сообразно принятым стандартам, государство предстает в виде барьера на пути хаоса, словно витиеватый сосуд для жидкости. Людская масса постоянно бурлит, конфликтуя и взаимодействуя, впитывает что-то новое, изменяется, испытывает потребность выплеснуться за край – и хорошо, ежели форма меняется сообразно содержанию.
Руководящие принципы построения этой формы можно назвать стержнем государственности. А создается государство одновременно из трех составляющих: во-первых как союз равных, во-вторых как принуждение колеблющихся и слабых и, в третьих, возможно в главных, как некое таинство, сакральность, Божий промысел. Ильиновская семья есть союз и таинство, а корпорация – это союз и принуждение, как и руссоистский договор и марксистская эксплуатация. Упоминаемую иногда в качестве одной из основ государственности традицию, если немного подумать, следует отнести к разновидности таинства.
Образовавшись, государство, как и любая иная сложная организационная система, приобретает качества субъекта. То есть получает свойственные ей эмержентные свойства, свой проект будущего, собственные интересы.
По теории, удовлетворение этих интересов сводится к выполнению определенных функций или, говоря по-иному, к решению соответствующих задач. Для любой организационной системы основная ее функция – удовлетворение требований вышестоящего органа дабы тот ее «не сократил». А оставшиеся силы рассматриваемая система может бросить на выполнение своей главной задачи – расти и усложняться, увеличивать собственную мощь, значимость и важность.
Гладко было на бумаге да забыли про овраги. Применительно к государству основная его функция должна вроде бы сводиться к обеспечению потребностей своих граждан – ведь именно они это государство создали, им оно и подотчетно. Но из этих же граждан государство состоит… получается, что выполнять свою главную функцию оно будет за их счет?
У любого государства наличествуют три непременных признака, три атрибута.
Во-первых, особая система органов и учреждений, осуществляющих властные функции, – так называемая система государственной власти. Довольно сложная конструкция, допускающая множество модификаций и соединений несоединимого. Для современной России в нее включают: президента с его администрацией, многочисленные законодательные учреждения начиная с Думы, федеральные и местные министерства и приравненные к ним ведомства, прокуратуры всех уровней, различные подразделения министерства внутренних дел, губернаторов и мэров с их аппаратами советников и исполнительных сотрудников, всех военных и гражданских служащих силовых структур, работников тюрем, судов и таможен, загсов и пожарных служб… извините, для нормального человека дать полный список – непосильный труд. Даже уборщиц туалетов в зданиях центральных министерств и ведомств следует причислить к важным сотрудникам органов государственной власти, так как порядок начисления им пенсий ныне такой же, как для министров. Если вовремя не остановить перечисление, может создаться впечатление, что все окружающие руководят тобой через государственные институты, а ты, умница, пашешь, как карла, кормишь эту уйму руководителей. И что бы ты без них делал?!
Второй атрибут государства – совокупность правовых норм, регламентирующих основы государственного и общественного устройства страны, систему и принципы формирования и деятельности органов государственной власти и управления, избирательную систему, права и обязанности граждан, – так называемое государственное или конституционное право. И, наконец, третий атрибут – это, конечно же, территория: никакое государство не может существовать в уме или в эфирном пространстве.
Вообще говоря, для «полноценного» государства необходимо добавить еще один атрибут – суверенитет, то есть независимость во внешних и верховенство во внутренних делах. Пользуясь удобным случаем, отметим, что привычное выражение «суверенитет и территориальная целостность», ставшее идиомой, избыточно, фактически схоже с «масляным маслом»: поскольку территория – неотъемлемый признак государства, то требование целостности территории равнозначно требованию сохранения суверенитета. Скажем также, что абсолютный, полный суверенитет не более чем абстракция. Во все времена все страны жили с оглядкой на соседей. А в современных условиях, с появлением процесса глобализации большинство субъектов международного права добровольно или принудительно отказывается от значительной, зачастую, части суверенитета.



