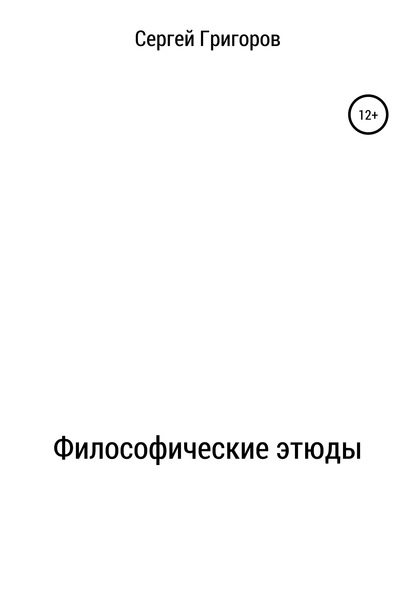 Полная версия
Полная версияФилософические этюды
Каковы самые удивительные научные прорывы? Рискуя смертельно обидеть массу уважаемых людей, назовем лишь ньютоновы формулировки основных законов механики, максвелловские уравнения электромагнитного поля, принцип неопределенности да научно-популярную заметку в журнал для любознательного юношества, из которой затем выросла специальная теория относительности. Кто-нибудь мог предсказать их появление? Кто-нибудь заставлял ученых работать над этими проблемами?
В противовес – свидетельства вопиющей близорукости людей.
Оптические свойства стекла давно известны. В Древнем мире была распространена лупа. В Средние века слабые зрением люди пользовали очки. Но только сравнительно недавно догадались разместить два оптических стекла друг за другом и изобрели архиважные приспособления – микроскоп и телескоп. Что мешало сделать это раньше? Ведь соответствующие потребности ощущались давно. Подозрения Гиппократа о существовании микробов не получили должного отклика, наделение Марса двумя спутниками произошло только благодаря прозорливой фантазии Свифта, и так далее.
А сколько тысяч лет назад человек приручил лошадь? Однако важнейший элемент конской сбруи – стремена – появились только в пятом веке нашей эры. Чудо, не так ли?
Еще один печальный пример. Когда под занавес Средних веков европейцы в очередной раз добрались до Америки, они решили, что аборигены не знакомы с понятием колеса. На самом деле колесо там было давно и повсеместно известно, использовалось в детских игрушках. Индейцы не преодолели самую малость: не обратили внимания на то, что у колеса есть ось. Поэтому тяжести перевозили не на тележках, а на волокушах. Цена ничтожного шажка мышления – огромная расточительность общественного труда.
А сейчас главный аргумент. Вы задумывались, каковы самые фундаментальные научно-технические достижения человечества? Их, вероятно, немного. Напрашивается сказать об изобретении письменности, позволившей человечеству улучшить общую память, а вам, в частности, – читать эти строчки. Обязательно надо снова упомянуть о колесе, на идее которого в той или иной степени основываются все механические устройства. А также о разрядной системе записи чисел, позволившей разработать простые и удобные алгоритмы счета. Мы не знаем, когда были сделаны эти открытия, кто их автор. Показатель прогресса здесь в том, что спустя многие века, а то и тысячелетия, стала понятна их важность.
Итак, ничего не ждите от прогресса. Ни хорошего, ни плохого. Однако помните: если вам показалось, что жизнь стала лучше, то наверняка вы чего-то не заметили.
Где обитаем
История естествознания – это падение. Люди постоянно претендовали на привилегированное место в Мироздании, и раз за разом низвергались в пучину ничтожества.
Когда-то мир казался маленьким. Чуть больше той территории, которую можно было охватить взглядом, взобравшись на высокое дерево или поднявшись на гору. Рассказы путешественников о дальних странах укладывались в существующую систему мифов и сказок. Так появлялись собакоголовые, амазонки, сирены, грифоны и прочее. А в двух-трех днях пути пряталось жилище доброго волшебника или Прокруста, первого в истории стандартизатора – он выравнивал по росту усталых путников. Чуть дальше обитали боги, не считавшие зазорным время от времени пообщаться со смертными.
Солнце жарким фонариком исправно вставало на востоке, проплывало по небу и тонуло на западе. Казалось очевидным, что оно много меньше окрестных полей и лугов. Древние греки, впрочем, додумались, что Земля круглая, попробовали определить ее радиус. Получили огромное, с их точки зрения совершенно несуразное число (но, честно говоря, значительно меньше истинного) и засомневались в своих теоретических изысках. А после этого многие выдающиеся мыслители на основе вдумчивого анализа священных текстов убедительно доказали, что Земля – плоскость, и нечего огород городить. Один из них, кстати, был монахом и носил звучное имя Космос – может, в насмешку?
Много позже наука все же взяла реванш, смогла определить более-менее правильное соотношение размеров Земли и Солнца и убедила в этом сомневающихся.
Только в двадцатом веке выяснили, что легкая туманность на ночном небе – так называемый Млечный Путь – на самом деле есть огромное скопление звезд. Назвали ее Галактикой. Подсчитали количество звезд в ней – более ста миллиардов. К Солнцу стали относиться как к ничем не выделяющейся звездочке, находящейся далеко-далеко от центра Галактики, совсем на периферии, на отшибе.
Потом открыли другие галактики. Снова принялись подсчитывать. Пришли к выводу, что количество этих образований значительно – в миллионы, а то и во много более раз – превосходит количество звезд Млечного Пути. Наша-то Галактика, оказывается, зауряднейшее звездное скопление, лежащее внутри чего-то очень большого, названного Метагалактикой.
А затем – так вообще чудеса в решете (почти в буквальном смысле этого слова). Стали подозревать, что наблюдаемая нами часть Вселенной обладает ячеистой структурой, будто ажурная этажерка или, скажем, заготовка для железобетонной конструкции. Она как бы состоит из кубиков, на гранях которых плотность галактик выше, чем в серединке. Размеры каждого такого кубика, однако, столь велики, что не следует без особой нужды их называть.
Теоретические построения пошли еще дальше. Кое-кто решился утверждать, что наша Метагалактика – одна из многочисленных частичек Мира, каждая из которых образовалась в результате своего Большого взрыва. А вместе они словно виноградные грозди, висящие в… непонятно где и как. Другие ученые приписали нашему родному пространству не три измерения, а больше – одни шесть, другие двенадцать, третьи двадцать четыре – и множат виртуальные реальности без зазрения совести. Красиво жить не запретишь, пусть теоретики измышляют что хотят. Однако заметим, что более логично приписывать пространству бесконечно много измерений – всеобщие категории существуют в Мироздании либо в единственном числе, либо в неопределенно большом. Но даже если ограничиться любым конечным количеством пространственных измерений, все равно страшно за себя – не сыщешь в них ни нашу Метагалактику, ни Галактику, ни Солнце с милой нашему сердцу Землей.
Великое достижение человеческого гения – изображение молекулы, полученное с помощью электронного микроскопа. Но габариты Галактики относительно метагалактических расстояний много меньше, чем соотношение размеров Земли и атомного ядра. Наша планета – даже не микробылинка, а настолько ничтожная часть Большого Мира, что для такой малости пока не придумано названия.
В общем, мы фатально затеряны в безбрежности Космоса. Почти без натяжки можно было бы сказать, что мы – ничто, да как-то не хочется.
Из ложной гордости человек не желает приравниваться к нулю. Якобы для анализа процессов, происходивших во времена возникновения нашей Метагалактики, ученые придумали антропный принцип. Формулировок его много. Приведем одну из самых скромных: основные параметры среды на момент Большого взрыва, в результате которого образовалась Метагалактика, ее фундаментальные физические константы подобраны таким образом, чтобы появилось человечество. И мы с вами.
Чем бы дитя не тешилось.
Как обитаем
Психологически человек чувствует себя комфортно только в покое. Тогда он может думать о жизни своей непростой, замышлять что-либо эдакое, а немногие выдающиеся особи – даже философствовать. Максимальная скорость, которую человек может лично развить в форс-мажорных обстоятельствах, – например, при установлении мирового рекорда в беге на сто метров, – менее одиннадцати метров в секунду, что составляет около сорока километров в час. Езда в автомобиле со скоростью сто километров в час (примерно двадцать восемь метров в секунду) по обычной дороге или в черте города – удовольствие уже для экстремалов.
Без преувеличений можно сказать, что человек мыслящий – это человек либо сидящий, либо лежащий. Короче говоря, чувствующий прочную опору под собой.
Однако мало кто задумывается над тем, что за счет вращения Земли каждый проживающий вблизи экватора постоянно движется со скоростью… четыреста шестьдесят три метра в секунду – тысяча шестьсот шестьдесят семь километров в час. Для москвича, находящегося ближе к полюсу, чем к экватору нашей планеты, эта скорость ненамного меньше – около двухсот пятидесяти восьми метров в секунду. Не закружилась голова? Не потерялась точка опоры?
Но это еще не все. Орбитальная скорость Земли относительно Солнца – примерно тридцать километров в секунду, то есть сто тысяч километров в час. Ужас! Зацепиться бы за что-нибудь хоть на мгновение… Но не за что. Более того, настала пора вспомнить, что Солнце принадлежит Галактике и вместе со своими соседками обращается вокруг общегалактического центра масс. Скорость этого вращения – около двухсот двадцати километров в секунду, то есть почти восемьсот тысяч километров в час. На этом фоне можно пренебречь и собственным вращением Земли, и движением ее вокруг Солнца. Но только наивные и ограниченные люди не смотрят, что дальше.
А дальше вот что. В видимой нами части Вселенной существует так называемое реликтовое, или фоновое излучение. Спектр этого излучения примерно соответствует спектру излучения черного тела с температурой около трех градусов Кельвина (это двести семьдесят градусов ниже нуля по Цельсию). Все существующие ныне теории происхождения Вселенной – будь то «горячий» или «холодный» взрыв, или же скушная стационарная жизнь – так вот, все они утверждают, что фоновое излучение можно считать покоящимся относительно центра Вселенной. А наша Галактика, согласно последним астрономическим измерениям, движется относительно этого излучения. Поэтому и Солнце вместе со всеми окружающими ее светилами мчится сейчас по направлению к созвездию Льва со скоростью четыреста километров в секунду. Это составляет почти полтора миллиона километров в час. За то время, пока вы читаете данное предложение, вы пролетели вместе с вашим любимым диваном, домом, с ближайшими окрестностями и со всей Землей такое расстояние, которое вы сможете преодолеть на автомобиле за год непрерывной, изнуряющей гонки!
Все? Конечно же, нет. Перечислена ничтожная часть тех движений, которые можно приписать нам, обитающим на поверхности Земли. И, сами понимаете, никто не гарантирует, что завтра ученые не заговорят о том, что мы участвуем еще в каком-нибудь движении, что подвергаемся воздействию еще каких-то, пока неведомых сил.
Комментарии, наверное, излишни. Однако все же хочется сказать следующее.
Профессиональный физик, а тем более занимающийся механикой, мыслит только в категориях инерциальной системы координат. То есть той, в которой нет «неучтенных» перегрузок, вращательного движения и прочих неудобств. Если судьба подбрасывает современному ученому иную, «неправильную» точку отсчета, то он первым делом выводит матрицу преобразования «плохой» системы координат в обычную. В которой тело, предоставленное самому себе, будет якобы бесконечно перемещаться с одной и той же скоростью. Аристотель, правда, полагал, что такое тело будет двигаться по кругу. Не известно, в каких небесных сферах витал тогда его гений. Кажется, Галилей, человек более приземленный, его своевременно поправил, но не в этом суть.
Из изложенного следует, что у человечества никогда не было и, вероятно, не будет по-настоящему инерциальной системы отсчета. Во все века Земля и мы с вами подвергались действию неопределенных космических воздействий. Вы скажете, эти силы настолько малы, что ими можно пренебречь? Может быть. Но все же не забывайте, что ночное небо темное не потому, что мало звезд и много пустоты, а потому, что проявляется действие «красного смещения». Фактора, мизерного по обыденным меркам, найденного в результате многолетних кропотливых наблюдений с использованием мощных телескопов. Свет дальних звезд просто-напросто выпадает из оптического диапазона, и наш глаз не улавливает его.
Крутится, вертится шар голубой…
Так за что зацепиться в этом мире бушующем? Ничтожной былинкой затеряны мы в пространстве и времени, невесть как эволюционируем… Где та точка опоры, чтобы перевернуть Мироздание? Вроде бы и легендарный умище наш, и сверхъестественная прозорливость не помогут. Попытаться опереться на знания? Что ж, поговорим и о них. Тема сложная и важная, поэтому не пожалеем места.
Что знаем
Вроде бы потихоньку накапливаются знания об окружающем мире. В научной литературе можно встретить огромное количество описательных предложений, которым придается свойство быть истинными. Вероятно, какая-то крупица знаний в них действительно присутствует – против авторитетов всего мира не попрешь. Однако подавляющая часть общезначимых человеческих утверждений имеет неопределенную сферу истинности. В какой-то области они правильные, в какой-то – не очень, а где-то они могут быть и неверными. Употребляя же их без соответствующих оговорок, мы грешим против истины.
Приличный человек не врет без веской причины, и иногда мы искренни в своих заблуждениях. Ньютонова механика распространялась на весь диапазон скоростей и масс, пока не появилась теория относительности. Свет представлялся то корпускулами, то волнами, а нынче он и то, и другое. Можете сами продолжить этот ряд и, в частности, вспомнить про упоминаемые выше теплород и эфир. А также про любимую человеческую абстракцию – инерциальную систему координат. Уместно привести и следующий исторический пример. В свое время считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Галилею показалось, что Земля вращается вокруг Солнца. Но он был мудрым человеком и особо не отстаивал свою точку зрения, избежав тем самым костра инквизиции. Сейчас наука оправдывает его поступок: более правильно говорить, что вращаются одновременно и Солнце, и Земля – движутся вокруг общего центра масс.
Чаще мы отступаем от истины ради экономии мыслительной энергии. Зачитайте, например, ученому-физику школьное представление об электрическом токе в проводнике – «направленное движение электронов» – и у него завянут уши. Однако он не ринется исправлять учебники. Классический курс высшей математики красив и строен потому, что эксплуатирует аксиому выбора. Одно из следствий этой аксиомы – существование кривой, проходящей через все точки куба, но, как и все кривые, не имеющей объема. Про этого монстра и многих прочих рассказывают почему-то далеко не каждому студенту.
Еще чаще люди предают истину потому, что такова их природа. Поводов не перечесть – из гордости или уничижения, из желания прихвастнуть или поскромничать, из-за лени или из стремления быть понятнее собеседнику и все такое прочее.
Напрашивается общий вывод, что подавляющая часть человеческих знаний далека от истины. Дополнительное подкрепляющее умозаключение хотя бы таково: если процесс познания очень длителен, а мы находимся в самом начале его, то наши представления об устройстве мира должны быть гораздо ближе к ложным, чем к правильным.
Замшелый догматик, конечно, здесь возразит, ехидно посмеиваясь: критерий истины – практика! Если работает электромотор – значит, правильно разобрались в законах электричества. Сделали атомную бомбу – правильно понимаем ядерную физику. Синтезируем новые вещества – значит… Продолжать скучно. Эти аргументы есть следствие шулерского приема – подмены критерия правильности на критерий полезности.
Лейбница первого, кажется, посетила идея создать большую логическую машину – суперкомпьютер, говоря современным языком, – способную из начальных утверждений, принимаемых за аксиомы, вывести все их следствия. Тогда вроде бы перед человечеством раскрылись бы все тайны природы. Окрыленные этой перспективой математики философского склада ума стали развивать два направления научных исследований. Первое было связано с поиском минимальной и внутренне непротиворечивой системы аксиом, то есть интуитивно очевидных и потому принимаемых без доказательства утверждений, из которых чисто формальными методами предполагалось получить все другие истинные высказывания. Второе направление было нацелено на анализ проблем формализации доказательств. И по первому, и по второму направлениям к нашему времени получены ошеломляющие результаты.
Выяснилось, что существует огромное количество непротиворечивых наборов аксиом, и нельзя сказать, какой из них более «правильный». У каждого из них свои преимущества и недостатки.
При исследовании проблем формализации доказательств были получены еще более неожиданные результаты. В 1931 году, когда была опубликована первая теорема Геделя о неполноте, стало ясно, что даже в относительно простых теориях – в формализованной арифметике, например, – существуют высказывания, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Далее ученые пришли к заключению, что множество всех выводимых, то есть строго доказываемых формул составляет ничтожную часть истинных. Некоторые даже высказывали предположение, что в действительности логика служит нам лишь для растолкования научных результатов, придания им убедительной формы, и не более того. Тимофеев-Ресовский, прозванный Зубром, утверждал, кстати, что наука есть всего лишь умение манипулировать фактами. Можно выразиться и чуть по-другому: вся человеческая наука сводится к искусству проповедовать взятые с потолка истины.
Таким образом, мы не знаем, насколько адекватно наши знания отражают закономерности окружающего мира, и не должны питать особых надежд на то, что сможем узнать это в обозримом будущем. Развивая этот тезис, необходимо сказать следующее.
Банальна истина, что отдельный человек может рассматриваться как целостность только в биологическом аспекте – как самостоятельный живой организм. В сфере психики он маленький винтик сообщества себе подобных. Вопрос, что главнее, «первичнее» – человек или общество? – по сути аналогичен курьезному «что появилось раньше – курица или яйцо?» и ответа не имеет. Современное общество есть продукт эволюции человека как биологического вида, и каждый индивидуум есть результат воздействия на него общества. Действительным – и единственным! – носителем культуры и цивилизации является социум. Подвиги Мужика, прокормившего двух генералов, и Янки, оказавшегося при дворе короля Артура, – детские фантазии. Да и Робинзон на необитаемом острове выжил только благодаря наличию некоего набора одежды и инструментов. Еще один мифический персонаж, будоражащий воображение своей несуразностью, – Маугли. В реальности же если человеческий детеныш будет воспитываться в звериной стае, полноценного человека из него не получится. Это абсолютно достоверный факт. Полгода-год младенчества на пленере – и чуждую натуру полузверя-получеловека уже не переделать.
Малый ребенок, совмещая показания различных органов чувств, создает мысленные представления об окружающих его целостностях. Выделяет определенные предметы как некие объекты реальности. Запоминает, что, скажем, «стол» так смотрится, так осязается, так используется и так далее. Постепенно усложняя психическое отражение мира, он добирается до абстрактных понятий. Под неусыпным контролем воспитателей и учителей осуществляется процесс освоения новым человеком используемой в обществе системы мышления. Рано или поздно под понятием, например, «дом» каждый начинает подразумевать строение определенного целевого предназначения. А называя домом родной край, свою комнату, постель с уложенным «шалашиком» одеялом, понимает, что это не более чем метафора. И каковы бы ни были условия существования, на каком бы языке ребенок ни говорил, он начинает оперировать одними и теми же индуктивными, абстрактными понятиями. Процесс освоения и корректировки их понимания сродни передаче наследственной информации молекулами ДНК.
Кто-то возразит, что по-иному, не так, как мы, мыслить нельзя. Но когда-то мышление людей некоторых живших обособленно племен было иным. До тех пор, пока оно не капитулировало перед простотой и непритязательностью рационализма европейского Возрождения.
В свете изложенного не выглядит невероятным предположение о том, что упорствуя в своих заблуждениях, человечество введет слишком много оторванных от реалий мира абстракций вроде математической точки, волновой функции, потенциальной и актуальной бесконечности, симметрии, ноосферы и прочих химер. Так много, что выйдет на определенный горизонт познания и утратит способность дальнейшего раскрытия тайн природы. При этом все его останется при нем. Изощренная экспериментальная база. Великолепные и постоянно совершенствуемые средства наблюдения. Проверенная тысячелетней практикой методология научных исследований. Но все это будет задействовано вхолостую, ибо самый главный инструментарий – мышление – будет блуждать среди ложных понятий.
О человеческой правде можно говорить так: знание – иллюзия, многознание – диагноз. Сократовское «я знаю, что ничего не знаю» воистину бессмертно.
Как мыслим
Не претендуя на какой-либо вклад в науку психологию, констатируем наличие у человека различных «уровней» мышления. Наиболее простые из них – логические и арифметические операции, легко поддающиеся формализации, алгоритмизации и программированию. Современный компьютер уже даст сто очков форы обыкновенному человеку при проведении любых массовых расчетов. В игре в шахматы машинная программа рационального перебора вариантов вот-вот станет непобедимой. Однако при распознавании образов и классификации, особенно когда приходится выбирать признаки схожести или делимости, компьютер не может конкурировать с человеком. Специалисты по искусственному интеллекту, впрочем, надеются, что рано или поздно будут созданы программы, освобождающие человека от решения этих задач. Возможно, они и правы. Но вот восприятие метафор и иносказаний и придумывание оных, вся анагогика, а также понимание важности решения той или иной задачи – вещи, кажущиеся принципиально неформализуемыми. Обладание именно этими формами мышления позволяет человеку додумываться до чего-то принципиально нового, то есть превращает его в творца. Специалисты по искусственному интеллекту признаются, что не представляют, как можно будет даже в далеком будущем привить компьютеру эти навыки. А христианская церковь утверждает, что угадывать символизм слов человеку помогает Святой Дух: подручные дьявола и люди, продавшие ему душу, теряют способность творить новое, за словами видят только слова. Поскольку мы отказываем компьютеру в разуме, к формам мышления, отличающим homo sapiens sapiens`a от неразумных созданий и позволяющим ему называться творцом, следует относить только неформализуемые мысли.
Некоторые нейробиологи, интерпретируя результаты своих тонких экспериментов, выдвинули гипотезу, что человеческий мозг не генератор, а всего лишь приемник новых мыслей от некоего Единого Вселенского Информационного Поля. Так ли это на самом деле, вряд ли когда удастся доказать. В связи с этим следует, вероятно, ограничиваться неопровержимым – тем, что человеческий интеллект не относится к первичным функциям организма, мышление «посажено» на эмоциональную сферу, и каждая новая мысль «выталкивается» нашими чувствами. При этом мы не можем по собственному желанию «выдать» нужную именно в данный момент идею, каким-то образом ускорить поиск решения возникшей задачи.
К сказанному следует добавить, что человек крайне ограничен в интеллектуальной сфере. В частности, способен рассуждать только одномерно-линейно. Поясним.
Для нас каждый наш собрат либо самостоятельная личность, либо маленький элементик общества, выращенный им и полностью от него зависимый. В первом случае мы восхищаемся уникальностью, неповторимостью отдельной личности – каждый человек, мол, своя Вселенная. Во втором случае говорим об уровне детской смертности, стоимости потребительской корзины, трудовом стаже, среднедушевом доходе, периоде так называемого пенсионного дожития и так далее. Но одновременно представлять человека как индивидуума и как общественную частицу мы не можем. Аналогичное положение и в других областях знаний.
Каково качество такой ограниченности нашего мышления? Одна и та же умозрительная сущность оказывается не одномерной величиной, а вектором. И мы совершенно не понимаем, что же делать с этим самым вектором как с целостностью. Но и это еще не все: одновременно только оперировать в уме этими векторами вряд ли достаточно, надо бы еще уметь отслеживать, как одна их компонента усиливает или уменьшает проявления другой. Вот почему уместно говорить о нашей невозможности рассуждать иначе, как одномерно-линейно.
А что, ежели у высоких абстракций в действительности не две-три, а бесконечно много различных ипостасей? Как тогда браться за них?
Попереживав в душе, сделаем небольшое отступление перед тем, как завершить этот этюд. Остановимся на том, насколько мы сроднились с самыми простыми абстракциями, которые были придуманы нами, – с числами.
Числа
Человек почти постоянно произносит большие и малые числа. Наблюдая за малышней, можно, например, подсмотреть следующую сценку.

