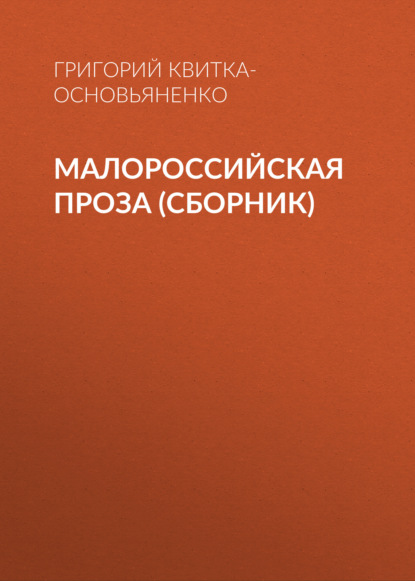 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
Пять дней прошли после отправления Довбни с фурами. В продолжение этого времени Гаркуша все был мрачен и ходил по лесу. Изредка подходил к тому месту, где кочевала его шайка; останавливался там, думал, тосковал, утирал глаза от слез и опять скрывался в чащу леса.
На шестой день пришел к оставшейся при нем малочисленной прислуге. Один из отпущенных ни за что не хотел оставить Гаркушу, и сколько тот ни отсылал его, сердился на него, грозил даже ему, но он упадет перед ним и просит: «Убей меня, батьку, а волею не пойду!» И так против воли Гаркуши он остался при нем.
Гаркуша, пообедав приготовленного ему Горобцом, сидел задумавшись, как вдруг из-за кустов въехал на добром, но измученном коне Товпыга с подвязанною рукою и перевязанною головой.
– Все пропало, батьку! – вскричал Товпыга, проворно вставая с коня.
Гаркуша. Как?.. Что хочешь сказать?
Товпыга. Ничего хорошего, а много худого. Вышли мы из лесу благополучно, взошли на дорогу, скоро сошлись с другими чумаками, к утешению нашему также «идущими с солью». Долго ли нам, тобою воспитанным, сойдясь с ними, подружиться? «Скинувшись по слову, стали приятели», свои фуры разместили между их фурами, «палим люльки», песни поем и идем весело от места до места. Дорога лежит нам на тот город, где ты, батьку, проучил городничиху; мы и ничего. Посоветовавшись с Довбнею и своим ничего не сказавши, объявили чумакам, что нам надобно завернуть в сторону верст пятнадцать от города. Почему же мы не пошли через город? Уж ли бы не стало у нас сметливости? Не могли бы мы обмануть городничихи? Эге! Оно так, да не так. Городничиху обманули жиды и между дровами провезли знатные товары. Городничиха взяла с них за провоз дров, и как узнала, что товары прошли мимо ее рук, то, прибивши мужа с сердцов, приказала все, везомое через город, объявлять ей, и сама все осматривает. Вот мы и побоялись попасться ей в руки. Хорошо сделали, да вышло нехорошо. Отстали от чумаков и расположились в поле ночевать, от города верстах в трех. После первого сна Довбня будит меня и говорит: «Беда! Жидка нашего нет с нами, чуть ли не с вечера ушел!» Нечего делать, видимо, измена. Как только можно скорее вооружась, запрягли фуры и поспешили отъехать от того места, где ночевали, и начали запутывать путь свой. Ничто не помогло. На заре набежали верховые. Первое дело – Довбню убили… Что мы могли против такой силы? Нас окружили… Ссадил и я несколько человек; вижу, что я уже почти один, схватил свободного коня и к тебе, батьку!..
Гаркуша (закрыв лицо руками, рыдает горько). Довбня, Довбня!.. Оставил ты меня сиротою!.. Первая кровь за меня и чрез меня!..
Товпыга. Фуры наши тут же поворотили в город, и при них поехала городничиха на своей таратайке, а с нею и предатель жид, как видно, известивший ее и наведший на наш ночлег. Получила добра немало!.. Батьку! Все наше пропало. Собери детей, разорим город, возьмем свое и потешимся над городничихою.
Гаркуша (рыдая). Все прах!.. Вдвое, вдесятеро дал бы столько, лишь бы Довбня был со мною!..
Горесть Гаркуши была невыразима. Совершенно потерянный, он не внимал ничему… Сколько Товпыга ни спрашивал у него, что он предпримет теперь, сколько ни представлял, что нужно действовать и взять предосторожность на будущее время, Гаркуша все говорил одно, что он в эти часы не может придумать ничего, подумает, обдумает… и, упав на землю, опять плачет, вспоминая о Довбне. «Я, я один виноват за него! – говорил Гаркуша. – Я, избрав ложный путь, увлек и его в погибель! О, если бы он был со мною! Действуя по новому плану, я стер бы с себя пятно… и Довбня был бы понят!..»
Не сделав никаких распоряжений, остались ночевать на том же месте.
– Что вы, дети? Откуда взялись? – спрашивал Гаркуша бежавших к нему с разных сторон отпущенных им прежде товарищей.
– Беда, батьку! – кричали они в большом волнении, бросаясь к нему, целуя полы платья его и все крича: – Беда! где наши все, где оружие? Подавайте нам его!..
Едва одного из них мог остановить Гаркуша, чтоб расспросить, что случилось. «Нам изменил жидок, – говорил он. – По известным ему приметам он ведет к нам большое число вооруженных солдат… Мы тебя, батьку, не оставляли, мы не выходили из леса, стерегли тебя… куда бы ты ни пошел – и мы бы за тобою. Теперь помрем за тебя… где наше оружие?.. Мы дадим себя знать…»
Оружие было сложено в чаще леса… Второпях едва вспомнили место; отыскали, поспешно вооружались, торопливо заряжали ружья; шайка Гаркушина никогда не действовала вооруженно, а потому и обращаться с ружьями и саблями не всякой в ней умел. С пришедшими всего составилось не более тридцати человек.
Товпыга со слезами умолял Гаркушу скрыться в густоту леса: «Мы все поляжем, – говорил он, – а тебя, батьку, не выдадим».
Гаркуша. За последнего из вас жизнию пожертвую. Моя жизнь ничего. Скорее, скорее. Не ожидайте нападения, идите против них. Утешьте меня: повалите жида… отмстите за Довбню!..
Гаркуша был окружен совершенно военною командою. Не привыкших к битве, но все-таки нападающих, почти шутя отбивали; по необходимости убито несколько, прочие все взяты…
В городе суматоха. Мужчины, женщины с детьми бегут, даже немощные старики, едва передвигая ноги, все идут к одному месту.
Женщина (подошла к соседке). А что тут будет такое? Не будут ли кого штрафовать?
Соседка. Нет, то будет после, а теперь только этою улицею повезут лютого харцыза Гаркушу.
Женщина. Разве уже схватили его?
Соседка. Живого схватили. Да еще как? Из самой Москвы проявился один полковой офицер да пошел против него с солдатами; вот и сошлись, начали биться… бились, бились, бились, бились; то-то уже бились!.. Как видит Гаркуша, что не сила, превратился в ястреба и полетел… а офицер себе – молодой, да великую силу знает! – превратился в орла и сбил его назад. Гаркуша стал собакою, а офицер волком, и загрызлись между собою. Гаркуша видит, что плохо ему, стал мышью, вот чтоб ловче уйти в лесу, а офицер себе стал кошкою, за ним, за ним… и поймал его. Это было в виду всех солдат. Кум Демьян все это мне рассказывал.
Женщина. Когда б хорошенько стерегли его! а то чтоб не стал невидимкою, как он часто делал.
Соседка. Не в такие руки попал. Видишь ли, вон везут его, закованного и по рукам, и по ногам; за шею к колодке прикован и еще привязан к телеге…
Когда заковывали Гаркушу и Товпыгу особо, то Гаркуша сказал: «Как ни жалка смерть моего Довбни, но завидую ему! Он избежал посмеяния от злой городничихи. А мне эта участь предстоит!» – и, скрежеща зубами, тряс цепями в ярости.
По снятии допросов Гаркуша заключен был в тюрьму, и караул приставлен уже не из обывателей, а из военной команды, поймавшей его.
Городничий с военным офицером и другими членами, устроивши все, пришли в дом. Городничиха долго не выходила из комнаты, где была запершись с кем-то. Наконец вышла, а бывший у нее прокрадывался под окнами.
Выходя к гостям, городничиха говорила сама с собою: «Мало и запросил, бестианский сын! Половину! Я тебе дам половину! Счастье мое, что попался мне в руки». Вошедши же напала на мужа с криком:
– Чего вы смотрите? Вон крадется тот жид, что содержался за делание фальшивых ассигнаций и ушел от нас. Неужели его не схватите?
– Где он, где? – закричал городничий и прочие, бросаясь к окну.
– Он, он, точно он! Ловите его, ловите!
И не ожидавший ничего худого, а еще надеявшийся на получение чего-либо, жид тут же был пойман…
– Смотрите, не участвовал ли он с Гаркушею? Не вместе ли с ним разбойничал? Не сводите их вместе, а издали покажите Гаркуше, что он скажет?
Жида закованного и, по приказанию городничихи, с завязанным ртом подвели к окну тюрьмы, где содержался Гаркуша.
– Гаркуша! Знаешь ли ты этого жида? – спросили его.
Гаркуша выглянул, изменился в лице, цепи на нем страшно загремели, и он заревел:
– Иуда!.. предатель!.. Довбня…
Жида поспешили увести и, написав к прежнему его обвинению в делании ассигнаций, что он ушел из тюрьмы и пристал к Гаркуше, не замедлили осудить к должному наказанию.
При поимке Гаркуши и шайки его найдена у каждого из них значительная сумма, а у Гаркуши были еще жемчуг и другие ценные вещи. Все это описали и, обратив внимание на явку городничихи, поданную после первого посещения Гаркуши о забранных у нее вещах, по мере показанных цен вещам, уплатили ей все сполна. Об отнятых же возах с солью и прочей принадлежностью умолчано и по бумагам о том нигде не значилось.
Вскоре после того, когда известилось начальство о управлении городничего и наряжено было следствие, он умер скоропостижно.
Когда объявили Гаркуше решительный о нем судебный приговор, он, поклонясь присутствующим, сказал: «Справедливо. При всем учении моем я ложно понял вещи, а пред законом и в том уже преступник, что принялся действовать самовластно. Участь мою еще прежде вас истина изрекла устами юноши».
Примечания Л. Г. Фризмана[346]
«Солдатский портрет»Впервые напечатана на украинском языке в альманахе «Утренняя звезда», (кн. 2, Харьков, 1833, с. 9—43) с подписью «Грыцько Основьяненко» и подзаголовком «Побрехенька». Существенно доработанный вариант – в МП-1, с. 1—60. Первая редакция перепечатана в «Зібранні творів у семи томах» (т. 3, с. 417–429). Автограф неизвестен, как и точное время создания повести. Поскольку написанная в качестве предисловия к ней «Супліка до пана іздателя» датирована 5 июля 1833 года, следует думать, что сама вещь была создана несколько раньше. Цензурное разрешение М. Каченовского дано 1 декабря 1833 года.
На русском языке опубликована впервые в переводе В. И. Даля под его псевдонимом «В. Луганский» в журнале «Современник» (1837, т. VII, с. 108–138).
Как известно, хотя Квитка писал, что его повесть «прекрасно передана» Далем, у него была и неудовлетворенность некоторыми его «выражениями», что побудило писателя перевести ее самому и опубликовать в третьем томе альманаха «Сказка за сказкой» (СПб., 1842, с. 5—32) собственный перевод «Солдатского портрета». Этот перевод и воспроизведен в данном издании.
«Маруся»Впервые – МП-1 (с. 63—314), с посвящением Анне Григорьевне Квитке. Небольшой отрывок из повести был под названием «Украинское утро» напечатан в альманахе «Утренняя звезда» (кн. 2, Харьков, 1833, с. 44–48). Автограф неизвестен. Неизвестно также точное время создания произведения. Цензурное разрешение М. Каченовского датировано 4 октября 1833 года. Первая публикация в автопереводе на русский язык с криптонимом «В. Н. С.» – «Современник» (1838, т. ХІІ, с. 1—148 третьей пагинации).
«Праздник мертвецов»Впервые – МП-1 (с. 315–380). В русском автопереводе – «Современник» (т. 13, с. 127–161) с криптонимом В. Н. С. и посвящением: «Казаку Владимиру Луганскому».
«Делай добро, и тебе будет добро»Впервые – МП-2 (с. 3—106). Цензурное разрешение М. Каченовского – 11 ноября 1834 года. Автограф неизвестен. Автоперевод с криптонимом «В. Н. С.» – «Современник» (1836, кн. 2, с. 3—106).
«Конотопская ведьма»Впервые – МП-2, в автопереводе на русский язык с криптонимом «В. Н. С.» – «Современник» (1839, т. XIV, кн. 2, с. 1—60) с посвящением Михаилу Яковлевичу Бедряге. Сведений об этом лице найти не удалось.
«Вот тебе и клад»Впервые – МП-2 (с. 348–441). В русском переводе – «Литературная газета» (1840, № 1, 2). В письме от 8 февраля 1839 года Квитка обещал Плетневу прислать ему автоперевод этой повести для публикации в «Современнике». Но после критического отзыва Н. А. Полевого на «Праздник мертвецов» он изменил свое намерение и отдал ее А. А. Краевскому для помещения в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“». Как она попала в «Литературную газету», нам неизвестно.
«Божии дети»Впервые – «Утренняя заря», год 11 (СПб., 1840, с. 1—99). Украинский текст с заглавием «Божі діти» – впервые в изд.: Григорий Федорович Квитка. Сочинения (т. ІІ, Харків, 1887, с. 197–236). Автограф на украинском языке – в ОР.
«Вот любовь!»Впервые в автопереводе – «Современник» (1839, т. XVI, кн. 4, с. 1—115). Украинский текст с заглавием «Щира любов» опубликован в изд.: Григорий Федорович Квитка. Сочинения (т. II, Харків, 1887, с. 139–304). Автограф – в ОР. Первоначально повесть была написана по-украински и предназначалась для третьей книжки «Малороссийских повестей». 8 февраля 1839 года Квитка писал Плетневу: «…„Щирая любовь“ поступила в цензуру к П. А. Корсакову. Но явится ли она у меня особняком – еще не знаю» (Письма, с. 140). Цензурное разрешение было дано 14 февраля 1839 года. На основе повести Квитка в 1839–1840 годах написал пятиактную драму «Щира любов, або Милий дорогше шастя», которая была опубликована в «Южном русском сборнике» (Харьков, 1848).
Повесть стала предметом переписки Квитки с Плетневым, в результате чего ее концовка подверглась переделке. Измененное окончание было опубликовано в следующем томе «Современника» с обширным предисловием Плетнева, разъяснявшим историю его создания. (См. «Современник», 1840, т. XVII, с. 107–111). Первоначальный вариант концовки сохранился в рукописи на украинском языке и напечатан в «Зібранні праць» (т. 3, с. 471–475).
«Перикатиполе»Впервые – «Маяк» (1840, ч. VII, гл. II, с. 114–131). На украинском языке впервые в альманахе «Молодик» (ч. II, Харків, 1843, с. 51–90). Известно, что Квитка принимал активное участие в подготовке к печати двух первых частей «Молодика». Автограф на украинском языке – в ОР.
«Козырь-девка»Впервые – отдельным изданием: «Козир-дівка» (СПб., в типографии 3-го отделения Государственных имуществ, 1838) с посвящением Ольге Яковлевне Кашенцовой, племяннице Г. Ф. Квитки. Цензурное разрешение П. Корсакова – 9 февраля 1837 года. Посвящение датировано: «11 июля 1836. Основа». Печатание повести длительное время задерживалось, и письма Квитки отразили его беспокойство по этому поводу. Лишь в апреле 1839 года издание появилось в Харькове и сразу вызвало эмоциональные отклики. 26 апреля он писал Плетневу: «Вышла „Козир-дiвка“ – и судья сердится на меня, что он никогда бубликов не принимает от просителей…» (Письма, с. 144). Автоперевод повести на русский язык был опубликован в «Современнике» (1840, т. XVIII, кн. 1, с. 1—103 (третья пагинация)).
Повесть вызвала также и сочувственные отклики современников. Е. Гребинка писал автору 14 марта 1838 года: «Еще недавно я вам сказал, да и не я один, а все наши, – превеликое спасибо за „Козырь-девку“» (Данилевский Г. П. Украинская старина. Харьков, 1866, с. 273). Плетнев откликнулся на нее рецензией, в которой, в частности говорилось: «Среди современных творцов повестей, автор, который взял себе имя Грицка Основьяненка, без сомнения один из первых талантов, даже и не только в России. Природа наделила его тонкой наблюдательностью характеров, странностей и всех сторон жизни, что прекрасное зарождается под его пером без наименьших усилий <…> Изображая простонародный быт – этот камень преткновения для счастливейших писателей, он и черты не внесет лишней и ни одним словом не помешает искушению» («Современник», 1838, т. XII, с. 64–66).
К лучшим произведениям Квитки относили «Козырь-девку» В. Белинский и И. Франко.
«Украинские дипломаты»Впервые – «Современник» (1840, т. XVIII, кн. 2, с. 1—212), с посвящением П. В. Зворыкину. Автограф неизвестен.
«Сердешная Оксана»Впервые – альманах «Ласточка» (СПб., 1841, с. 32—207). Автограф неизвестен. В русском автопереводе – «Москвитянин» (1842, № 2, с. 411–474).
Рецензент «Литературной газеты», откликаясь на первую публикацию повести, заметил: «Такую уж бог дал натуру уважаемому Грицку Основьяненко: он не может не рассмешить до упаду, когда захочет рассмешить, не может растрогать до глубины души, когда захочет взволновать» (1841, № 56, с. 223–224).
«Головатый»Впервые – «Отечественные записки» (1839, т. VI, отд. 2, Науки, с. 1—29) с подписью: Грыцько Основьяненко.
Предание о ГаркушеВпервые – «Современник» (1842, т. XXV, кн. 1, с. 1—89; т. XXVI, кн. 2, с. 1—86).
Л. Г. Фризман
Примечания
1
Литературно-критические работы декабристов. М. – Худож. лит., 1978. – С. 85.
2
Мастак И. (Бодянский О. М.) Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком // Ученые записки Московского университета, год второй. – Ч. VI. – С. 307.
3
Шевченко Т. Г. Письмо от 19 февраля 1841 г. // Собрание сочинений: в 6-ти т. – Т. 5. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 256.
4
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Львів, 1910. – С. 89.
5
Друг. – 1876. – Ч. 20. – С. 318.
6
Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Твори: у 8 т. – Т. 8. – К.: Дніпро, 1970. – С. 200.
7
Москвитянин. – 1849. – Ч. VI, № 20. – Кн. 2. – С. 329.
8
Там же. – С. 330.
9
Москвитянин. – 1849. – Ч. VI. № 20. – Кн. 2. – С. 332–334.
10
Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 57–58.
11
Рассказ Грицька Основьяненка: Солдатский Портрет был напечатан по-Малороссийски; имел большой успех; для незнающих Малороссийского наречия, конечно, приятно будет прочесть эту повесть в Русском рассказе самого автора; для каждого, даже для Малороссиянина, Солдатский Портрет в Русском переводе справедливо покажется новостью. Редактор.
12
Маляр — художник (от укр. слова «малювати» – рисовать). В украинском языке есть и слово «художник», но Квитка использует его синоним, видимо потому, что он более соответствовал общей сниженной, шутливой тональности произведения. (Прим. Л. Г. Фризмана)
13
Шалфей – растение, листы которого использовались в медицине и парфюмерии. (Прим. Л. Г. Фризмана)
14
Каламайковая (каламенковая) – сделанная из каламенка – пеньковой или льняной ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)
15
Коневий — сделанный из лошадиной кожи. (Прим. Л. Г. Фризмана)
16
Гласы – здесь: звуки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
17
Богомаз – плохой иконописец. (Прим. Л. Г. Фризмана)
18
Обдутый – одутлый, одутловатый. (Прим. Л. Г. Фризмана)
19
14-го октября, Св. Прасковьи, называется первая пятница; 28-го октября мученицы Прасковьи, другая.
20
Откупщик – купец, «откупивший» себе право на какие-либо доходы или налоги. (Прим. Л. Г. Фризмана)
21
Кварта – мера жидкости, десятая или восьмая часть ведра. (Прим. Л. Г. Фризмана)
22
Аспид – ядовитая змея, в переносном смысле: злой человек, скряга. (Прим. Л. Г. Фризмана)
23
Подушное – налог, который собирался «с души». (Прим. Л. Г. Фризмана)
24
Бабак (байбак) – степной сурок, в переносном смысле – сонный, неповоротливый человек. (Прим. Л. Г. Фризмана)
25
Десятский – начальник над десятью людьми. (Прим. Л. Г. Фризмана)
26
Баклага – фляга. (Прим. Л. Г. Фризмана)
27
Цур ему – аналог русского «чур», возглас, означающий запрет на что-либо. (Прим. Л. Г. Фризмана)
28
Бублейница – женщина, которая изготовляла бублики. (Прим. Л. Г. Фризмана)
29
Горохвяники – пироги с горохом. (Прим. Л. Г. Фризмана)
30
Очипок — чепец. (Прим. Л. Г. Фризмана)
31
Смушки — шкурки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
32
Тяжина — вес, тяжесть. (Прим. Л. Г. Фризмана)
33
Цех — общество ремесленников, в переносном смысле – объединение каких-либо людей. (Прим. Л. Г. Фризмана)
34
Пестрядинный — сделанный из пестряди – грубой бумажной ткани из разноцветных ниток. (Прим. Л. Г. Фризмана)
35
Баба-козырь – бойкая, энергичная баба. Ср. «Козырь-девка». (Прим. Л. Г. Фризмана)
36
Гречишники – пироги из гречневой крупы. (Прим. Л. Г. Фризмана)
37
Становой (становой пристав) – полицейский чиновник, начальник стана в уезде. (Прим. Л. Г. Фризмана)
38
Успение — Успение Пресвятой Богородицы, церковный праздник, отмечаемый 15 (28) августа. (Прим. Л. Г. Фризмана)
39
Лыки — здесь: рубашки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
40
Ночевки — неглубокие корыта. (Прим. Л. Г. Фризмана)
41
Квашни – кадки, в которых квасят тесто. (Прим. Л. Г. Фризмана)
42
Черевики – башмаки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
43
Сластёница – мастерица, готовящая сладости. (Прим. Л. Г. Фризмана)
44
Онуча – обвертка на ноге, заменявшая чулок, подобие портянки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
45
Папуша – связка сухих табачных листьев. (Прим. Л. Г. Фризмана)
46
Подоски – железные полосы, врезанные под ось, чтобы уменьшить трение. (Прим. Л. Г. Фризмана)
47
Фиги – здесь: винные ягоды. (Прим. Л. Г. Фризмана)
48
Тарань – сушеная рыба. (Прим. Л. Г. Фризмана)
49
Мазница – деревянная или глиняная посуда для дегтя. (Прим. Л. Г. Фризмана)
50
Квач – помазок в дегтярнице. (Прим. Л. Г. Фризмана)
51
Когда жена грызёт мужа за что, называется; моркву скромадит, морковь скребет.
52
Томпаковые – сделанные из томпака, сплава меди с цинком. (Прим. Л. Г. Фризмана)
53
Плахта — женская одежда, подобие юбки. (Прим. Л. Г. Фризмана)
54
Серпянка – изделие из редкой хлопковой ткани. (Прим. Л. Г. Фризмана)
55
Заутреня – утренняя церковная служба. (Прим. Л. Г. Фризмана)
56
Поют Лазаря – выпрашивают милостыню. (Прим. Л. Г. Фризмана)
57
Цимбал – музыкальный инструмент. (Прим. Л. Г. Фризмана)
58
Штоф – единица измерения жидкости, равная 1,23 литра; посуда, вмешающая такой объем. (Прим. Л. Г. Фризмана)
59
Дегтярь – здесь: торговец дегтем. (Прим. Л. Г. Фризмана)
60
Сопатая – т. е сопящая. (Прим. Л. Г. Фризмана)
61
Мара – морока, наваждение. (Прим. Л. Г. Фризмана)
62
Средственный – состоятельный, имеющий достаточные средства. (Прим. Л. Г. Фризмана)



