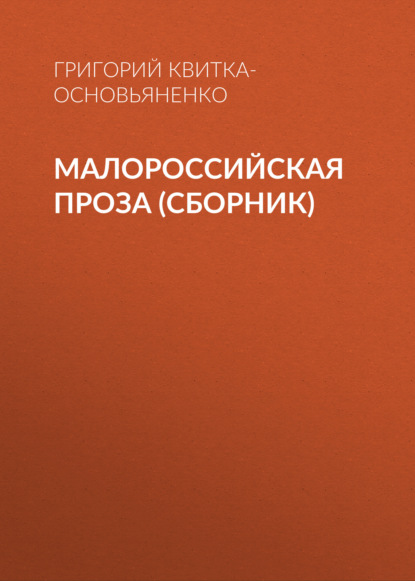 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
– А що то у вас за скрынька стоит?
– Это инструмент, фортепьяно.
– А хто на нёму гра?
– Дочь моя.
– А нехай загра.
По приказанию сестра села к фортепьяно и, желая угостить приезжего музыкою, начала играть одну из сонат знаменитого Плейеля…
– Та що се таке? – спросил Головатый, прослушав тактов десять. – Его и не розберешь, що воно и е́. Чи не вмиете якой швидкой?
Нечего делать: должно было отличную сонату оставить, и сестра заиграла «дергунца»[310].
Головатый взглянул на хлопца своего и крикнул:
– Максиме, ану!
Максим, сразу положив панские волки в угол, заткнул полы своей бекеши и пустился отжигать и скоком, и боком, и через голову, и в разные присядки… ну, восхитил нас, детей! никогда еще не приезжал такой славный гость!..
Головатый, по желанию своему, налюбовавшись нашим удовольствием, приказал Максимке перестать и идти к своему месту и тут уже занялся хозяевами…
Исчезла запорожская грубость; на чистом, употребительном языке начались расспросы, рассказы; любопытные события по Сечи, объяснение причин некоторым гласным происшествиям; сведения глубокие, острые замечания, тонкие суждения – всё это лилось из уст Головатого. Он говорил просто, в рассказах и описаниях не подбирал слов, но говорил красно, сладко, свободно; чего неудобно было выразить так верно и сильно по-русски, тут он украшал – и точно украшал – речь запорожскою поговоркою, и все кстати и неподражаемо. Вместо прежнего страха, мать моя уже не отходила от беседующего Головатого. Разговор у него с отцом моим продолжался до глубокой ночи. По молодости моей, я не сохранил всего рассказанного тогда Головатым, хотя и слушал прилежно. Немногое осталось в памяти моей и утвержденное потом рассказами отца моего.
Головатый был в Сечи каким-то чиновником, кажется, «войсковым писарем». Имев обширный тонкий ум, природную способность обнять и здраво обсудить предмет, ловкость и удобство выполнить намерение, он, и в неважном чине, играл в войске значительную роль, управляя умами старших в Сечи. Ни один запорожец не мог быть женат; но Головатый уверил начальство, что желает быть попом в войске, почему и получил позволение жениться; обещания своего он не исполнил под разными предлогами; жена же его жила на хуторах, вне Сечи.
Когда умножились на Сече смуты и беспорядки, и как притом явно было видно, что правительство недовольно за все шалости и бесчинства своевольных запорожцев и приступает к какой-то решительной мере, то, в отвращение могущей последовать беды, посланы были в Санкт-Петербург депутаты хлопотать о пользах войска и испрашивать снисхождения. Депутатами были Семен Белый[311] и сей Головатый. Любопытны подробности и тонкие извороты их в столице у вельмож, составляющих правительство, недовольное запорожцами. Когда уже увидел Головатый неуспех, он составил новый план для управления Сечи и новую форму службе и управлению ею. Он предлагал все буйные, непреклонные к порядку головы, как из чиновников, так и казаков, под разными предлогами удалить или вывести из войска, если не можно навсегда, то хотя на долгое время; тогда объявить в войске новое устройство и порядок, сходные с теми, что в донском войске: дозволить жениться, иметь и приобретать собственность, части войска отбывать службу по назначению правительства, вне Сечи, а остальным заниматься хозяйством при исправлении домашней службы на всякий непредвидимый случай. Переписать всех казаков, вошедших в новый состав войска, и из-за того не принимать ни одного человека, какой бы он нации ни был, под строжайшею ответственностию всего войска и в особенности лица, уличенного в сем преступлении.
Еще в свое время запорожцы, чтобы иметь при дворе могущественных защитников и покровителей, просили первейших вельмож вписаться в сечевые казаки. Помню, что между некоторыми Головатый именовал Л. А. Нарышкина[312] и князя Г. А. Потемкина; он именовался у них «Грицко Нечо́са». К этим-то сотоварищам по войску прибегали запорожские депутаты и испрашивали о исходатайствовании им прощения, а в случае крайности, принятие плана Головатого о преобразовании Сечи.
Князь Потемкин, как вице-президент военной коллегии[313], где рассматривалось дело о Сечи, имел случай узнать голову Головатого и часто допускал его к себе. Из отзывов князя Головатый увидел необходимость действовать решительно. Итак, он представил князю свой проект о реформе Сечи, приложил именной список, кого должно предварительно удалить из войска и под каким предлогом, чтобы не дать подозрений, и тут же обнадеживал в безусловной верности прочих старшин и казаков и во всеобщем их согласии на сии реформы.
Потемкин, выслушав вступление Головатого, только и произнес: «Право! – а бумагу швырнул прочь от себя в угол. – Не можно вам оставаться. Вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». Тут показал он Головатому толстую тетрадь, в которой на страницах было писано, что Сечь сделала худого, а против каждой отмечены заслуги ее.
– Все было записано верно, – рассказывал Головатый, – ни одно обстоятельство из обоих действий не было сокрыто или ослаблено, только хитра писачка що зробыв? Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробьев, а что доброго Сечь сделала, так то было писано часто и мелко, словно маком усыпано. Оттого-то наши худые дела занимали на бумаге больше места, нежели добрые.
В один день Головатый приходит, ничего не зная, к Потемкину. Князь встретил его словами:
– Все кончено. Текелий[314] доносит, что он исполнил поручение. Пропала ваша Сечь!
Рассказывая об этом, Головатый, несмотря на время, прошедшее после события, не мог удержаться от слез и объяснял, до какой степени поразило его известие и что он забылся до того, что почти с гневом тут же отвечал князю: «Пропали же и вы, ваша светлость!» – «Что ты врешь?» – сказал ему князь. «И притом и так взглянул на меня, – рассказывал Головатый, – что я на лице его ясно прочел мой маршрут в Сибирь и потому крепко струсил». Надобно было поспешить смягчить гнев вельможи, и я, несмотря на сильную горесть, поразившую меня, скоро нашелся и отвечал ему: «Вы же, батьку, вписаны у нас казаком; так коли Сечь уничтожена, то и ваше казачество кончилось». – «То-то же, ври, да не завирайся!» – был ответ князя, и на том все кончилось.
Много рассказывал Головатый о тогдашней горести своей от уничтожения Сечи. Подробно исчислял, что́ он сам и многие потеряли при этом событии. Присутствие их в Петербурге уже не было нужно, и они отпущены с переименованием в армейские чины без службы. Головатый получил чин поручика.
Белый с Головатым выехали и путь свой продолжали в сильной грусти. Куда явиться, где пристать, чем заняться? Никакой отрады, никакой надежды в будущем! В один день, быв одолены грустию больше обыкновенного, рассуждали они в такой крайности, к чему им жить?.. По строгом разборе своего положения нашли, что все кончилось для них и им остается только лишить себя жизни. Так предположив, приготовили себе по два пистолета с надежными зарядами; положили, чтобы Головатый читал вслух обыкновенные молитвы, и когда будет оканчивать «Верую», то при словах: «…и жизни идущего века» приготовиться обоим, а на слове «аминь» друг в друга выстрелить, и кто будет не вовсе убит, тот пистолетом своим дострелит себя. Чтобы же им в таком предприятии не помешали, они действие произвесть расположили на дороге, в пригодном месте.
Когда они проезжали мимо красивого леска, место им понравилось, они вышли, обнялись братски, простились до скорого свидания в будущей жизни и стали по местам. Головатый начал читать молитвы…
– Читал же я, – так рассказывал Головатый, – совсем не так, как, бывало, читывал на клиросе – бегло, но сколько можно медленнее – и всякое слово старался выговорить ясно; при окончании же каждой молитвы клал по большому земному поклону; – уже дошел до «Отче наш», все читаю… При слове «избави нас от лукавого» вдруг пришла мне мысль… Я остановился, опустил пистолеты и, обратясь к Белому, спрашивал:
– А знаєш що, батьку?
– А що? – спросил Белый с прежним мрачным видом.
– Вот се мы постреляемося?
– Атож!
– И нас тут найдут мертвых?
– Эге!
– И скажут: вот два дурня, запорожцы, верно, напились мертвецки и пострелялись, сами не зная чего. И нас зароют, как собак, и никто не узнает, зачем мы пострелялись, и нам не будет ни славы, ни чести, ни доброй памяти.
– Так що робыты? – спросил Белый, немного подумав и уже с проясняющимся видом.
– Цур ёму стрелятыся, батьку! Поедем дальше.
– Справди, цур ёму! Поедемо, – повторил и Белый, опуская пистолет.
– Что будет, то и будет; поедемо! – сказали оба, упрятали пистолеты на месте, назначенном для преступления, положили по три земных поклона, усердно прося Бога о прощении, потом обнялись, как вновь свидевшиеся, потянули из дорожного боклажка и пустились в путь.
О новейших происшествиях Головатый рассказывал так же подробно. Во время путешествия в том году Екатерины II-й в Крым, Головатый, собрав команду из прежних запорожцев, испросив позволение Потемкина, встретил при каком-то месте государыню и препровождал ее величество, за что и награжден чином капитана, и вскоре поступил в штат светлейшего и, находясь при нем, прокладывал дорогу к возобновлению казачества. «Не будет уже это Сечь, – говорил Головатый, – но особенное войско из прежних запорожцев; они будут иметь свою оседлость и порядок службы, приличный времени и обстоятельствам».
Головатый, предусматривая, что будущее войско должно быть в теснейшей прежнего связи с армиею и вообще с Россиею, нашел необходимым и выгодным дать сыну своему, старшему, высшее, нежели бы мог доставить в своем кругу, образование. Слыша о Харькове, где издавна были отличные учебные заведения, он приехал познакомиться с отцом моим и, по его совету, определить сына в училище. Во время пребывания его у нас осматривали пансионы и училища, и с общего совета Головатый избрал так называемые «классы», что ныне гимназия, и где преподавались те же предметы, что и ныне; главный же надзор за сыном поручен был директору классов, полковнику фон Буксгевдену, у которого он и жить должен был.
По отъезде Головатого вскоре сына его привезла жена Головатого и оставила на попечении отца моего.
С того времени дружеская переписка Головатого с отцом моим продолжалась безостановочно. В письмах своих он всегда величал отца моего: «вельможный батьку!» и своими выражениями всегда извещал о происходившем с ним. Потемкин, зная его давно, допускал его часто к себе. Вскоре учреждено и составлено «войско верных черноморских казаков». В нем были конные и пешие полки, гребная флотилия, которою командовал Головатый, бывший в новом войске уже «войсковым судьею». «Кошевым же атаманом» был сперва известный Белый, а по смерти его, случившейся вскоре, избран войском Захар Чепига.
В продолжение осады Очакова князь Потемкин говорил однажды, что турки из укрепления Березань[315], близ Очаковской крепости, делают большие беспокойства.
– Головатый! – примолвил князь, обращаясь к нему, – как бы взять Березань?
– Возьмемо, ваша светлость! А чи буде ж крест за те? – спросил Головатый прямо.
– Будет, будет; только возьми.
– Чуемо, ваша светлость! – сказал Головатый скромно, поклонился и вышел.
Немедленно послал он разведать о положении Березани и узнал, когда большая часть гарнизона вышла из Березани для собрания камыша. Головатый поспешил с флотилиею своею, пристал спокойно к берегу, без всякого шума высадил отряд и без дальнего сопротивления завладел укреплением. Отпустив суда свои, переодел своих турками и поставил из них караулы. Гарнизон возвратился и, не предполагая ничего, беспечно входил малыми частями в укрепление. Головатый забирал их по частям и, управившись как должно, с ключами укрепления спешил к Потемкину.
Входя в ставку светлейшего, Головатый начал петь громким голосом церковную песнь: «Кресту твоему поклоняемся, владыко!» – и, поклонясь низко Потемкину, положил к ногам его ключи занятой Березани и своими словами, с приличными поговорками и уподоблениями, донес о действиях своих и в заключение повторил: «Кресту твоему поклоняемся».
– Получишь, получишь, – сказал князь и по статуту возложил на него орден Св. Георгия 4-го класса.
Так названное войско верных черноморских казаков делало свое дело на суше и на море; милости князя Потемкина и награды за службу изливались обильно как на войско, так и частно на храбрейших и отважнейших. Головатый был уже армии полковник и, кроме Св. Георгия, имел Владимира 3-й степени.
Князь Потемкин, получив титул «великого гетмана», учредил при себе из разных казацких полков «гетманский конвой»; в том числе была «конвойная команда черноморского войска» в блестящих особых мундирах.
Многие чиновники черноморского войска, имея должности по полкам своим, получали армейские чины и к обыкновенным мундирам своим, присоединяли армейские украшения, следующие по чину: например, премьер-майоры и секунд-майоры нашивали на чекменях своих галуны, положенные для сих чинов в армии на камзолах. Вообще в войске истреблено было прежнее запорожское неопрятство, особливо в чиновниках, которые в одежде своей придерживались единообразия и применялись в мундирах своих к цветам армейским: шальвары широкие, турецкие и чекмень обыкновенно были красного сукна, а верхняя черкеска, с откидными назад рукавами – у пехотных зеленого сукна, а у служащих в коннице синего – все обложены по борту снурком золотым или серебряным.
Князь Потемкин при всяком случае ласкал черноморцев и явно показывал, что доволен их службою и усердием. Но всего более казаки обнадеживаемы были тем, что с окончанием войны турецкой им будет отдан остров Тамань, и они там будут поселены и наделены землею в собственность каждому, чего здесь еще не было за ними утверждено. Смерть князя Потемкина уничтожила их ожидания; когда же, и после заключения мира с турками, черноморское войско не видело забот об устройстве его и обеспечения его участи на будущее время, то оно прибегнуло к просьбам у верховного правительства, вследствие чего дозволено было черноморскому войску прислать ко двору депутатов из между себя, для представления о нуждах своих. Депутатом от войска назначен был Головатый, и он, с свитою своею, состоящею из полковника Высочина, премьер-майорского чина по армии, секунд-майора Юсбаша, который был из малолетних турков и, взят будучи в плен, поступил в черноморское войско, и других, всего восемь человек, отправился в Санкт-Петербург в марте 1792 года.
На пути Головатый со всею свитою заехал к отцу моему и прогостил несколько дней. Он ехал с большим беспокойством, не надеялся ни на что и ни на кого. Все планы и замыслы Потемкина умерли вместе с ним; из тогдашних вельмож никто не мог их постигнуть; судили по началам или преднамерениям и, не находя цели и причины, для чего что было предпринимаемо, стараясь довести скорее к концу, изменяли многое, а иное вовсе отменяли или уничтожали. Та же участь – и по той же причине – могла постигнуть едва возникшее и несовершенно устроенное черноморское войско… Головатый все ясно видел и понимал вещи прямо. Он полагался во всем на Потемкина – и кто б в то время ни положился на обещания его, кто бы тогда ни принес в жертву всего, слыша уверения о награждении положительном? Уверенный в возможности приобрести все, Головатый убеждал казаков, также с своей стороны видевших расположение к ним гетмана и ожидавших всего к спокойствию своему… Теперь для них гибло все! Утрачено время, употребленное на службу, в течение его упущены ими случаи обеспечить себя в оседлости и хозяйственном устройстве!.. Носилась между ними молва, что полки их поочередно будут содержать цепь по Кубанской – страшной тогда – линии[316]; что из них составлены будут якобы легкоконные полки, регулярные, имеющие войти в состав армии. Итак, Головатый ехал с унынием и тоскою, не зная, что ожидает его в столице, при дворе, вовсе и ни по чему ему не известном своими обыкновениями; в ком из вельмож сильных найдет он покровителя войску и в какой степени приобретет внимание их. В получении Тамани он сомневался крепко.
Находясь в таком расположении духа, он не был говорлив, часто играл на своей бандуре и пел запорожские песни, изъясняя, которая из них, кем, когда и по какому случаю сложена. Большею же частию погружался в мрачные думы и все смотрел «сторч».
В один из дней, пока гостил у нас Головатый, за обедом, кроме его и свиты, были городские чиновники с женами. Зашел разговор о теперешнем устройстве войска черноморского, отличном от бывшего, кочевого. Один из чиновников заметил, что при всем старании не можно в это войско ввести настоящей армейской дисциплины и безответного повиновения, потому что все еще гнездится в казаках прежний, сечевой дух равенства.
– Конечно, – лукаво отвечал Головатый, – и куда же нам равняться с армейскими! Мы себе так: абы б то! – и с сим словом взглянул на одного своего капитана, мигнул и сказал ему: – Миколо, ану!
Капитан Микола, с спокойным духом, не обращая ни на что и ни на кого внимания, кладет салфетку, встает, закручивает свои рыжие, необыкновенно длинные усы, пускается плясать, скакать и носиться вприсядку, припевая:
Ой хто до кого, а я до Параски…Не могу написать всей песни; но знающих ее уверяю, что этот капитан Микола под пляску и разноманерные присядки пропел ее всю без запинки и изменения, во весь голос и в присутствии дам, о которых он знал, что хорошо разумеют по-малороссийски, потому что прежде обеда они и ему делали несколько вопросов на малороссийском языке, понимая его вполне.
Окончив пляску, капитан Микола с таким же равнодушием, как и встал, сел опять за стол и преспокойно принялся за оставленное им блюдо.
– Куда же нам до армейских! – промолвил Головатый в прежнем тоне, – у нас все свое, особенное. – При этом рассказывал, что один из их чиновников, имевший чин армейского секунд-майора, наделал каких-то шалостей, о которых проведал и князь Потемкин.
– Головатый! пожури его по-своему, чтобы вперед этого не делал, – сказал Потемкин равнодушно.
– Чуемо, найяснийший гетьмане! – в то время отвечал Головатый, а на другой день явился к князю с рапортом:
– Исполнили, ваша светлость.
– Что исполнили? – спросил князь.
– Пожурили майора по-своему, как ваша светлость указали.
– Как же вы его журили? расскажи мне, – спрашивал князь, полагая, конечно, что ему сделали выговор, стыдили его и своими выражениями убеждали его исправиться, как Головатый, со всем хладнокровием, изъяснил:
– А як пожурили? просто, найяснийший гетьмане! Положили та киями так ушкварили, що насилу встал…
– Как? майора? – вскричал князь с большим изумлением. – Как вы могли?..
– Правда таки, що насилу смогли, насилу вчетырех повалили: не давался, одначе справились. А що майор? Не майорство, а он виноват. Майорство при нем и осталось. Вы приказывали его пожурить, вот он теперь долго будет журиться, и я уверен, что за прежние шалости никогда уже не примется.
Вставая из-за того обеда и отходя от стола, Головатый как-то нечаянно наступил на ногу идущему позади его чиновнику. Тот обратился к Головатому с извинением. Головатый отошел от него и сказал своим: «От хиба врагова политика! Я наступил ему на ногу, а он предо мной извиняется… Тьфу!»
Одна из бывших тут дам захотела поговорить с черноморцами и, подошед к майору Юсбаше, спросила его, применяясь к малороссийскому выговору:
– А что, батьку, вы бывали на балах у князя Потемкина? Черноморец, покручивая свой черный ус, уклонясь со всею светскою грациозною ловкостию, отвечал ей чистым русским языком:
– Находясь в конвойных его светлости, я, по обязанностям службы, всегда имел честь пользоваться этим отличием.
Изумленная барыня, слышавшая говорящего его перед тем с товарищами по «всем правилам» малороссийского языка и ожидавшая на вопрос свой услышать казацкое: «бувалы» или «та ни!» и потом за анекдот рассказывать о необразованности черноморцев, – остановилась и не вдруг нашлась, в каком тоне продолжать ей разговор, а продолжать надобно было, то и спросила его, но уже с запинкою и не впадая в малороссийский выговор: «и верно… танцовали?»
– Никак нет, сударыня, – отвечал черноморский казак, – быв по форме – с позволения сказать – в сапогах, я не мог решиться на такую неучтивость.
– Какая разница с танцовавшим Миколою! – прошептала дама, отходя от черноморца.
Головатый выехал от нас и, по прибытии в Петербург, явился к кому следовало. Вельможи были в великом затруднении, как, при всем блеске тогдашнего двора, представить государыне «диких людей» странного вида, по необыкновенной одежде их, с выбритыми головами, не говорящих по-человечески, а как будто мычащих, издающих одни слоги короткие, но никому не понятные, по-видимому понимающих людскую речь, потому что отвечают на все делаемые им вопросы; но что значат их ответы: «та ни», «еге», «атож» – тому ни в одном лексиконе не можно было найти изъяснения. Взгляд же их – упаси боже! – взгляд нечеловеческий: или вовсе не глядит на говорящего с ним, или если уже и взглянет, так словно варом обдаст. Дикость, грубость, невежество, готовность к решительной дерзости очень ясно изображается в глазах черно… comment?..[317] черноморца.
В такой маске Головатый являлся к докладчикам, и ими описан был такими красками государыне; но, несмотря ни на что, ее величество повелела сих чудаков представить ей публично, в первое воскресенье, при выходе из церкви.
Обязанные устроить это представление крепко заботились научить по крайней мере главного из «диких», как поклониться пред государынею, и если ее величество благоволит допустить их к руке, как принять эту милость, ка́к облобызать руку, ка́к откланяться; а более всего – не дерзнуть ни слова промолвить, если не будут о чем спрошены. Придворные предполагали в черноморцах невежество до того, что они решатся о чем-нибудь объяснять пред государынею.
– Чуемо! – отвечал Головатый своим наставникам, смотря в землю; но при этом левый угол верхней губы его незаметно мигнул.
– Но если государыня соизволит спросить вас о чем, как вы будете отвечать?
– Як сумиемо, – отвечал Головатый… И обязанные представить черноморцев, долго советовавшись между собою, положили: в отвращение могущего произойти непорядка или даже неустройства при аудиенции быть им около «дикарей».
В воскресенье, в приемной зале дворца, к выходу государыни из церкви, собрались первейшие сановники государства, вельможи, иностранные послы и министры, генералитет и множество других чиновников – все богато, блестяще одетые по-европейски… И в это великолепно нарядное собрание вошли люди с выбритыми, как ладонь, головами, и только от макушки шел оставленный клочок волос, тонкий и длинный, замотанный несколько раз за левое ухо; широкие длинные усы; одежда странная, смесь польского с татарским, в ярко-красных с высокими подковами сапогах. Предводитель их в такой же одежде, цветов мундира тогдашнего морского, в зеленом чекмене с украшением по армейскому чину его полковничьих галунов и белой с закинутыми назад рукавами черкеске, с важными орденами, шел с суровым видом и не обращая ни на что и ни на кого малейшего внимания. Он стал на указанном ему месте, свита за ним. Им беспрестанно напоминаемо было, как вести себя при представлении, отвечать коротко на вопросы, но самим не сметь и словом заикнуться…
Весьма натурально, что все собрание обратило внимание на таких «необыкновенных людей»: слышен был шепот по зале и суждения около черноморцев о них же. Головатый рассказывал после, что «и в эту торжественную минуту, когда он готовился предстать великой и от нее услышать решение судьбы войска своего, сокрушался сердцем, что при самом дворе российской императрицы слышал русских вельмож, говорящих не с иностранцами, но между собою, русский с русским, на французском языке!..»
Государыня вошла в залу, и очень заметных в таком кругу черноморцев легко заметила, и приближалась к ним. Лишь еще государыня доходила к Головатому, как он вдруг, подобно оживленной статуе, совершенно изменился, выпрямился, глаза его заблистали живым огнем, и черты лица оживились. Поклонясь государыне, он начал говорить громким голосом, чистым выговором и приятным тоном:
«Всеавгустейшая монархиня, всемилостивейшая государыня! Жизнедательным державного веления твоего словом, из неплодного бытия прерожденный, верный черноморский кош приемлет ныне дерзновение вознести благодарный глас свой и купно изглаголати святейшему величеству твоему глубочайшую преданность сердец их. Приими оную как дань, довлеющую тебе, премудрая монархиня! Приими… и уповающим на сене крылу твоею пребуди прибежище, покров, радование… Та й годи!»
В высшей степени изумление объяло всех присутствовавших… Не смея в присутствии государыни говорить между собою, вельможи только взглядами один другому изъявляли свое удивление, что «нечто», имеющее, хотя и странный, но вид человека, по-видимому, не одаренный рассудком избыточно, дерзнул говорить пред государынею, говорил умно, понимал, кому и что говорил… Все было для них непостижимо, и потому изумление их оковало… Бритая голова может рассуждать и говорить, как и они, имея причесанные и распудренные головы!

