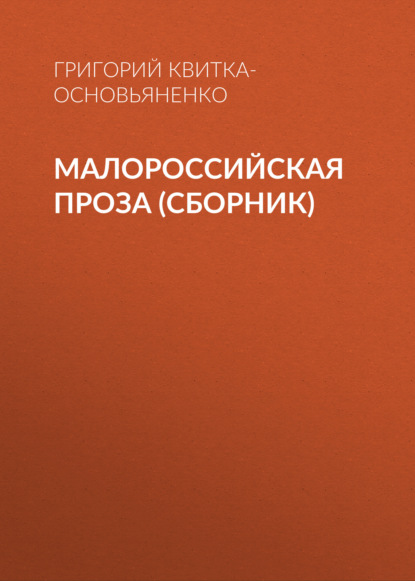 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
Утешала его одна Ивга и подчас говорила:
– Я и сама вижу, Левко, что тебе не можно с отцом жить, и все через брата. Хорошо, скажу ему, чтобы отдал уже меня за тебя, как и мать приказывала. Пожалуй, он еще и рад будет сбыть нас, чтоб ему свободно было с Тимохою здесь управляться. Он и свадьбу сыграет, и сундуки с приданым, и материнские подушки отдаст, но денег не получим от него ни копейки; он не рассудит, что это мы все ему насобирали, а как он скуп, так сохрани бог! Ведь в светлицу, где сам живет, никого не впустит и ключа никому не даст, разве уже по большой надобности мне. От сундука же своего, в котором деньги лежат, так уже и мне самой никогда не даст. Когда отдаю деньги, так замечаю, что их куча порядочная, но из их не даст нам ничего. А без денег что сделаем? С чем взяться, с чем пуститься в оборот? Конечно, мы бы скоро устроились: нас люди больше знают, нежели его, и все бы к нам обратились, так нечем начать дела. Ты говоришь, что имеешь деньги. Где они у тебя?
– Что значат мои деньги? – сказал Левко, а у самого на сердце и екнуло. Он их отдал по частям – овса, дегтя и прочего такого накупить, но как поверил их недоброму человеку, так только и видел деньги и человека. Оттого-то он и затужил на вопрос Ивги и говорит: – Что мои деньги! Много ли их? Рублей пятьдесят с процентом. Можно ли подняться с такою суммою?
– На первый случай было бы и сих. Что же делать, когда нет больше? Часть нужного для нас купим на деньги, а часть в долг возьмем, да так и откроем свой постоялый двор. Бог поможет, разживемся помаленьку. Пойди же к людям, возьми свои деньги, и станем начинать свое дело.
Не один раз так Ивга посылала его собирать должные деньги, а он только и знал, что проводил ее, говоря, что обещали через неделю, там через две… Что же ему оставалось более говорить? Он уверен был, что как бы знала Ивга, как он их истратил, то винила бы его. А между тем надеялся найти такого, кто бы поверил ему такую сумму, или что-нибудь подобное предпринять…
Однажды Ивга ему сказала:
– Отца нет дома и не возвратится прежде вечера. Мне очень нужно поговорить с тобою о нашем деле. Вот тебе ключ от отцовой светлицы, поди туда и ожидай меня. Я же на часок сбегаю к соседке и тотчас ворочусь. Дождешься меня – и посоветуемся, как это сделать, чтоб послезавтра обвенчаться. Проезжающих много и в хате, и в комнате, негде больше с тобою поговорить. Сиди же там, и будь ласков – к отцовому сундуку не подходи: наш старик ужасно подозрителен и, где что положит, все заметит, все боится, чтобы не обокрали его…
Левко сделал все по ее словам. Управивши свое дело, пошел в светлицу…
Ах, Ивга, Ивга! Чего ты так долго у соседки засиделась? Какое дело тебя удерживает там? Пока ты там занималась, дома что делается? Приди, посмотри!
Старик Макуха домой воротился скорее, нежели ожидали его, да к тому же немного и навеселе. Тимоха, как увидел отца в таком состоянии и зная, что он тут может у него все выпросить, вышел навстречу к нему и пристально начал просить денег. Запросил было пять целковых – отец пихнул его от себя; стал просить трех – отец выбранил; просит одного – отец ворчит и отказывает даже в полтиннике. Тимоха все просит и даже в ногах кланяется. Отец сжалился, обещал дать ему четвертак, и с тем по шли к светлице. Светлица не замкнута. Отец и говорит:
– Видишь ли, там Ивга! Пускай она выйдет, так без нее дам; ты знаешь ее, она станет ворчать и не велит тебе дать ничего.
– Нужды нет, тата! – говорит Тимоха. – Когда будет ворчать, то и ее попрошу. Пойдем.
Отворили двери, вошли… Господи милостивый! Что это такое?..
Макухин сундук отперт, разбитый замок лежит подле, на полу… над сундуком стоит… Левко! Нельзя сказать, он или подобие его!.. Бледный чрезвычайно, глаза закатились… В руке держит мешок с деньгами, другая рука полна целковых… И видно, уже не первую пригоршню потянул из мешка, потому что кругом его на полу лежат все целковые. Верно, как торопился вынимать из мешка, так рассыпал…
Как увидел Макуха такую беду, так и ударил себя о полы руками и вскричал:
– А что ты это тут делаешь?
Левко же, словно в лихорадке, ужасно изменился в лице, трясется и едва мог проговорить:
– Это, дядюшка… может… не мне…
– Не тебе, разбойник?.. Не тебе?.. Берите его! Хлопцы, сюда!
Как тут Тимоха призвал людей, бывших в великой хате. И набежали…
– Берите его… Вяжите разбойника! – кричат все вдруг и схватили бедного Левка. Мигом поясами связали ему руки и перевязали ему ноги, чтоб не вырвался и не убежал, потом повели к волостному правлению: шесть человек держат его крепко, а более десяти, кто с дубиною, кто с колом, кто с ухватом, обступили его и препровождают как арестанта. Что же бедный Левко? Что ему делать? Известно: идет, куда ведут его, не может противиться, ни пары из уст, на шее привешен разбитый им замок, а на длинной хворостине, как запаска при свадьбе, висит прицепленный мешок, из которого он крал деньги, как видели все. Это улика ему в преступлении. Еще не успели с такою процессиею выйти за ворота, как уже и сбежалася тьма народа, словно на свадьбу… Женщинам тут открылось богатое поле! Не прошли и несколько саженей, как уже соседка рассказывает другой, что Левко, приемыш Макухин, пришел к нему, к сонному, и хотел его зарезать… Как на это набежал Тимоха, защитил отца, и, хотя Левко два раза швырнул его в бок ножом и по горлу резнул, однако Макушченко его осилил-таки, руки связал, крикнул на людей, тут набежали и схватили его… Сколько же еще наплетут, пока приведут его к волостному правлению?..
Ребятишки также пристали к куче народа, которая до того умножилася, что с трудом двигалися в тесных улицах: бегут за народом, подбегают к арестанту, в глаза насмехаются ему:
– Злодияка!.. Харцызяка!.. (воряга, разбойник) Дай целкового… Накрал… накрал у отца денег… – и подобное тому болтают.
Каково же было Левку переносить все это? Что он? Идет и не смеет глядеть на свет Божий! Слышит, как насмехаются над ним, ругают, упрекают его, все слышит… Идучи, взглянет на небо, вздохнет и скажет сам себе:
– Господи милостивый! Я ли это? Что со мною сделалось?! Иногда всматривался в кучи народа, не увидит ли, кого ему надобно… На этот шум выбежала от соседки Ивга и, не ожидая себе никакой беды, спрашивает кое-кого, кого это так ведут? Как же услужливые соседки рассказали ей по-своему о случившемся, так она и не опомнилась… Побледнела, затряслась и упала бы, если б кума ее не поддержала, и хотела скорее вести ее к знахарке, чтоб слизала, говоря:
– Это тебе сталося с очей. Какие же тебе тут очи, когда ее жених наделал таких бед!
– Нет, – отвечает Ивга, – нет, моя кумушка-голубушка, нет, моя родная тетушка! Мне знахарки не помогут! Пойдем к волостному правлению, послушаем, что это он наделал, и, если все это правда, так я перед ним и умру!..
Начальствующие в селении поспешили собраться в волостное правление, словно мухи к меду. Известно, что кому приключится беда, напасть, то судящим и с одной стороны и с другой кое-что перепадет, без дохода не будет… На то они судящие! Вот и тут: голова сел на первое место, как начальник, а подле него старшины сельские, а в конце стола писарь с чернильницею и с бумагою. Он уже успел что-то тихонько переговорить с Тимохою и, с веселым лицом явясь у своего места, то и дело что, покашливая, выводит пером по бумаге: «Спробовать перо и чернила…» Писнет и поглядывает на стоящих людей: когда кто в простенькой одежде, так он на тех и не смотрит, а только на одетых в жупаны глядит ласково, как кот на сало.
Голова приказал подать злодея (ввести вора), подойти старому Макухе и начал расспрашивать, как было дело. Макуха рассказал все, как, вошедши в светлицу, нашел Левка над сундуком с деньгами. Левко что-то заикнулся говорить, как голова грозно закричал на него:
– Не смей и слова пикнуть передо мною! Знаешь ли ты? Я голова, и голова не на то, чтоб слушать твои оправдания, а тут же наказать тебя. А есть ли свидетели? – спросил он у Макухи, поглядывая на собравшуюся громаду. Человек двадцать отозвалося, что видели все это и с деньгами схватили Левка…
– Ну, и конец делу! – сказал голова, выходя из-за стола, чему последовали и прочие судящие, приговаривая:
– Так-таки, так!
– Писарь! – приказывал голова повелительно, – перепиши свидетелей и отбери от них руки, да пиши скорее рапорт в суд. Мы же пойдем к Макухе, произведем следствие. Я не Евдоким, прежний ваш голова. Я знаю и люблю порядок. Потом, оборотясь к сотским и десятским, приказывал, подтверждая пальцем каждую статью своих распоряжений:
– Глядите же вы: тотчас начните собирать с хозяев кур, яйца и все, что нужно. Видите ли – суд наедет сюда на следствие, так, может, проживут дня два, всего вдоволь надобно им поставить. Тут же еще и середа приходит, а наш исправник[271] богобоязливый, в посты скоромного не ест, так промыслите и хорошей рыбы, да побольше. Пойдем. Веди нас к себе, Федорович Трофим.
Старый Макуха крепко поморщился, знавши, как производятся в селениях следствия. Но делать нечего, готов был указывать дорогу – как писарь, остановя голову, спросил:
– А что же, пан голова, с учинившего происшествие треба (надо) восследует снять доношение… или тее-то… допрос.
– А для какого черта я буду мучиться еще его проклятым допросом? Разве не видишь? На шее у него разбитый замок и мешок…
– Да, оно так, – сказал писарь, почесав затылок… – Справка, всеконечно, чистая, но нужно собственное признание…
– Да ты у него и дубиною не выбьешь признания. Разве ты ум потерял и руки отсохли? Напиши сам и приобщи к делу… Я люблю порядок.
– Также и поличное последует приобщить к делу. Вы знаете, его благо… или… тее-то… его высокоблагородие всегда первоначально соизволит поличное подвергать рассмотрению…
– Я-то про то знаю. Ты меня, голубчик, не учи: я тебе не Евдоким, которого сменили. Делай по-моему. Поличное у меня, арестанта в «холодную», а рапорт скорее посылай в суд…
– А насколько стянул Левко? Вы, пан голова, и не спросили…
– Пиши больше. Напиши… на двести рублей… По курсу. Чего нам жалеть этого Левка, вора, мошенника? Да хоть бы и Макуха: он нам ни кум, ни сват, что нам до него? Его пропало, не наше. Пойдем же, панове судящий! Я с Макухою распоряжу все на месте преступления, сколько, чего, кому и как.
Макуха, поняв смысл сих слов, еще больше почесал затылок, но повел судящих… Голова, надувшись, как индейский петух, шел впереди, подпираясь толстою палкою, за ним судящие со всегдашним своим: «так-таки, так!», а потом Макуха со свидетелями и сыном, который еще что-то пошептал писарю. Куча же народа, когда только довели Левка до волостного правления, поспешила смотреть на медведей, цыганами приведенных в село…
Оставшись один в правлении, писарь заважничал и тотчас начал командовать:
– А где вы, десятские? Набейте на арестанта железа и посадите в «холодную». Да чтоб караульные были! Сегодня уже рапорт не отправим, потому что голова производит следствие; а как, по порядку, он там будет ужинать, то и не успеет. О! У него не как при прежнем голове: ему нужно прежде прочитать, да тогда уже он подпишет. Хорошо же, подписывай, а я заготовлю…
И, почесывая чуб, сел, чтоб писать, как тут Ивга бросилась ему в ноги и начала просить:
– Братик, Кондратьич, соколик! Что хочешь, возьми… Вот намисто… Вот и дукаты… И еще особо буду тебя благодарить… Только дозволь мне с Левком один на один переговорить, расспросить его: это не он сделал… Это что-то не так… Только его расспрошу…
Покашливал писарь, по своему обыкновению, покашливал, покручивал усы, потом встал, походил по хате, взялся за бока и говорит:
– Евгения Трофимовна! Или ты, сердце мое, одурела, или с ума сошла? И девованье твое, и молодость, и красоту, и все богатство хочешь погубить с таким развратным! Его судьба решена: вечная каторга ему предпишется. Не убыточься, не издерживай ничего, не давай мне ни намиста, ни дукатов; отдай мне себя со всем имуществом. Я человек с дарованием. Посредством твоего достатка и моей способности выскочу в заседатели земского суда. Ты будешь хозяйничать, а я на следствиях стану приобретать. А! Каково? Будет и нам, останется и деточкам. Оставь этого разбойника. Я его упрячу в Сибирь, а мы с тобой останемся в спокойствии и во всяком удовольствии. На всю ночь отправлю его в город, а завтра пришлю сватов, и ты выдашь им рушники[272]…
– А чтоб ты не дождал и с твоим скверным писарским родом! – так прикрикнула на него Ивга. – Можно ли, чтобы я оставила моего Левка, кого покойная мать велела мне уважать; оставила и променяла на тебя, пьявку мирскую! Сошлете его в Сибирь – я пойду за ним. Да не у вас правда. Я дойду и до города, и к судящим доступлю; всем расскажу, что Левко не таковский, это, может, на него наслано через колдовство. А ты себе выкинь из головы помыслы на счет мой: уйдут твои сваты от приема моего…
– Так запроторю же его в Сибирь! – вскрикнул писарь. – Иди же себе прочь отсюда с подкупами. На брак ваш брат согласие объявил, и отец возымет таковое же… И тебя принудим. Иди.
И тут он почти выгнал из правления Ивгу, а сам, разрываясь от гнева, сел скорее писать. Зубами скрипит, да все пишет и только песочком засыпает. Намучившись и часто ероша чуб свой, а таки написал, как Левка схватили над сундуком Макухи с деньгами, «коих по обыску в карманах и за пазухою оказалося более двухсот рублей по курсу, о похищении коих и намерении похитить… еще и более оный вышереченный Леонтий, по-уличному Загибячей, учинил сознание при нижеименованных свидетелях», и написал таких, каких и в правлении не было, да чуть ли находились и в селе. Подписал за них и руки, да скорее к Макухе, где голова производит следствие. Идучи же, сам с собою рассуждает:
– Не восхотела? Хорошо же! На всю ночь отправлю рапорт, с исправником и судьями сделаюсь, сошлю его на каторгу… А тебя брат выдаст мне и насильственно… Все мое тогда будет! О, да, пропастное у нее богатство! – Так рассуждая, добежал к Макухе…
Как же там голова с понятыми производит следствие? Известно, как видели и у земских. Первоначально сели за стол, а Макуха то и дело представляет доказательства; то полыньковой, то перчиковой, а потом дошло и до настоенной на калгане, что Ивга была припасла для проезжающих полупанков. Выцедили штофики[273] до дна, беседуя то о сенокосе, то об урожае, а о деле еще никто и не заикнулся. Макухины работницы как угорелые хлопочут: одна лапшу крошит, другая вареники лепит, та курицу чистит: вытянули пару гусаков, что Ивга засадила было выкормить… Пришла и им беда! Такой банкет справляют, что ну! А самой хозяйки, Ивги, никто ни о чем и не спрашивает. Она же забралася в новую пустую кладовую, и уже не то что плачет, а голосит о своей лихой године, что ей Левко так наделал… Свет ей завязал!..
Тимохе же тут и раздолье! Всех потчивает, а себя прежде всех; не обнесет никого и себя не забывает, да то и дело, что ругает Левка и такие приписывает ему поступки, которых он никогда и в уме не имел.
Еще не поели совсем всего наготовленного, и уже начали деревянными спичками шпигать вареники, и, обмакивая в растопленное масло и приготовленную сметану, есть, поспешая, чтобы свободнее приняться за терновку, которой полон штоф Макуха поставил на стол, как уже писарь и прибежал запыхавшись.
– Здесь ли тут голова с понятыми? Уже ли совершили следствие? – так спрашивал писарь, а голова отвечал ему грозно:
– И совершили, и сокрушили. Тебя бы то негодного писаря ожидать? Сколько раз я тебе говорил и приказывал, что я вам не Евдоким, прежний голова: у меня, чтобы дело кипело и чтобы по всей справедливости сделано было. Писал-писал ты до полночи, а что принес? Еще, может, только начерно? Да я, вот поужинавши, я порассмотрю и сразу поймаю в неисправности. Садись уже, не мешай добрым людям, ужинай.
Еще это пан голова только говорил, а пан писарь давно выпил и калгановой, не забыл и перчиковой, схватил полкурицы, тут ее и решил; часть гуся с ногою скорее в карман (он учился в школе и знал все приказные обыкновения) и принялся за вареники. Таким образом он догнал в еде и напитках тех, кои прежде его за час начали. Он был на все лихой малый! За таким скороспешным делом он успевал и покашливать, как прилично писарю. А что голова ворчал на него, так он и не слушал. Он знал правило: «Не бойся той собаки, что лает», и применился к головам: какой больше чванится, величается, порядки задает, тот-то ничего и не знает и, не понимая дела, сделает по-твоему. Тут так же было.
Поели, попили, поужинали, как лучше желать не можно. У пана головы язык едва шевелится, а прочие судящие и понятые скорее схватили палки свои и хотя подпираются ими, но порядочно шатались. Пан голова мог еще поблагодарить Макуху за хлеб, за соль, выругать Левка за его поступок и обещался завтра послать рапорт в суд об этом происшествии. Пан писарь же, покашливая над последним блюдом, молочною кашею, которую доедал, и поглядывая на кувшин терновки, все подмаргивал усом, думая, не так оно будет, как вы говорите. Когда же решил все и на закуску выпил последнее, то и сказал голове:
– Куда же вы уходите? Подпишите рапорт. Происшествие важное, должно послать на всю ночь…
– В су… суд? – спросил голова.
– Але, в суд, – крикнул на него писарь, – а вы и забыли, что пан исправник повелевал о всяком важном деле, где есть поличное, невпустительно долженствует представлять прямо ему?
Тут же подсунул пану голове рапорт, вынул из кармана чернильницу, и вложил ему в руки перо, и говорит:
– Подписывайте скорее. Где же вы пишете? Вы это вверх ногами подписываете.
Голова опомнился, выпрямил бумагу и стал подписывать, по слову складывая свое имя и все ворча на писаря:
– Я не люблю непорядков… Я вам не Евдоким… У меня неправдою не возьмете.
Писарь схватил подписанный рапорт, скорее домой и, написав на конверте: о самонужнейшем, на всю ночь отправил к исправнику. Пан голова еще смог дойти до своей хаты, потому что она была близко и он был мужик крепкий, а прочие судящие зашли не знать куда, и уже утром подняли их, лежавших всю ночь на улицах. Знатно учинили следствие.
Страдает наш Левко в оковах, заперт в «холодную». Проходит день, другой и третий. Караульные не пускают Ивги и близко. Она приносит ему есть, а больше всего ей хочется выспросить, на что он брал эти проклятые деньги? Хотела посоветоваться, как бы выпутаться из этой беды и затушить все дело. Так караульщики гонят ее прочь… Воротится, сердечная, домой и за слезами света не видит!
Тимоха же не нарадуется, что упёк Левка, принялся хозяйничать, сам не уважая ни в чем горюющей Ивги, а все водится с писарем… И вот чудно: не Тимоха угощает, а писарь все потчивает Тимоху и все обнадеживает, что Левка сошлют в Сибирь, наказавши плетьми:
– Я, – говорит, – так заправил делом, написал все и даже то, что он сам во всем сознался; все хорошо обработал и избавлю тебя от врага и супостата. Сестру же, хоть принудь, а выдай за меня. Мне не нужно ни имущества и ничего, только одну ее, все тебе оставлю.
Хотя же он так и говорил, но обманывал Тимоху: ему не Ивга нужна была, а имущество. Как же его было очень много, так он располагал Тимоху за худое поведение отдать в солдаты, а самому управлять всем; со старым же Макухою думал управиться так:
– Подведу, чтобы его, как богатейшего в селе, избрали сборщиком податей, да и запутаю его в счетах. Тогда отберу у него все. Когда поддастся, то и оправлю его дела, а если нет, то не отвернется, упрячу его на поселение. Туда ему и дорога! Ивгу приколочу раз несколько, поневоле не будет мне мешать ни в чем… Тогда, разбогатевши, при моем даровании, наверно буду заседателем… Хем, хем!
Писарские замыслы!
Дня четыре не было ничего… Как вот прибежал передовой казак с известием, что за ним едет и сам пан исправник. Бросились собирать у хозяев кур, яйца; послали в город накупить и ренского (виноградного вина, какого бы ни было, все называемого «ренским») и за французскою водкою. Как же назавтра была пятница и пан исправник в этот день ни за какие блага скоромного не кушал, то и приказано купить кавьяру (икры), крымских сельдей, свежепросольной осетрины, лучшей рыбы свежей, раков и булок.
– Известно, их высокоблагородие для нас трудится и беспокоится, так и нам, со своей стороны, должно во всем его успокаивать.
Так объяснял голова с писарем на сходках при часто случающихся издержках подобного роду.
Как вот прискакал и пан исправник, с двумя колокольчиками, с письмоводителем и в препровождении двух казаков…
– Где квартира? – спросил он грозно.
Повели к Макухе. Но прежде выгнали всех остановившихся там проезжающих, которых уже, без Ивги и Левка, не очень много было: от непорядков начали оставлять этот постоялый двор.
Войдя в хату, исправник прежде всего помолился Богу, а потом и закричал:
– Есть ли что обедать?
– Есть, ваше благо… тее-то… ваше высокоблагородие, – отвечал писарь с унизительною покорностью. – Но не соизволите ли прежде всего следствие…
– Пошел вон, дурак! – закричал на него его высокоблагородие, затопал ногами и следствие, которое писарь подносил, соизволил швырнуть ему в рожу:
– Что ты меня моришь делом? Я и без того измучился. Сними с вора допрос и подай мне после, а я теперь хочу обедать.
Поплелся наш писарь, ходя на цыпочках, боясь обеспокоить его высокоблагородие шумом ног своих. Вышел в сени, за хату, и начал писать допрос, будто записывая слова самого Левка, которого он со дня заключения и в глаза не видал. Пан исправник же между тем соизволил обедать знатно! Только что изволил откушать, как уже писарь и подбежал к нему на цыпочках.
– Не соизволите ли подписать допрос, ваше высокоблагородие?
А их высокоблагородие соизволил, стуча крепко ногами, выругать еще его, что мешает ему лечь отдохнуть после обеда, и прогнал его, повелев повальный обыск об арестанте учинить и кончить к пробуждению его.
После отличного мирского обеда пан исправник «опочивал», потому что много трудился с курятиною и яичницею. Письмоводителя же Тимоха Макушченко, употчивавши, сколько можно лучше, пригласил купаться и потом полежать в лесочке, куря трубки. А между тем пан писарь собрал людей большое число, привел к волости и начал спрашивать:
– А что, люди добрые! Кто знает, есть ли за Левком, приемышем Макухи, какие качества?
И замолчал, только пером поводя по бумаге. Старики пожали плечами; кто покашливает, кто палкою землю ковыряет, но все молчат. Наконец один из них вышел и сказал:
– Это про Левка?.. Про Макухиного приемыша?.. Есть ли у него качества?.. Гм, гм!.. Пускай Бог сохранит! Нет за ним ничего. Я дам присягу и должен сказать по правде, что он дитя доброе, хлопец смирный, работящий, и если бы не он у Макухи присматривал с Ивгою за порядком, то до сих пор ничего бы не осталось…
– Так ли все говорите? – спрашивал писарь, а самому крепко досадно было, что хвалили Левка, но… нечего делать!
– Все, все в одно слово говорим, как присягали… – зашумела громада.
– Хорошо же, хорошо. Давайте руки и идите по своим домам. Отобравши от них руки и отпустивши их, начал писать по своей воле, что такие-то из-под присяги показали, что Левко воряжка, бездельник, бродяжничает по другим селам, к домостроительству не способен, в воровстве, пьянстве, драках и прочих качествах упражняется частовременно и что им довольно известно, что хотел обокрасть хозяина своего, и потому они не желают принять его на жительство и просят или отдать в солдаты, или сослать в Сибирь на поселение. Такой обыск не побоялся пан писарь греха подписать за всех тех людей, что давали ему руки в одобрение Левка, а он, видите, как дело искривил!.. О писарская душа!..
Такие же точно и свидетельские показания написал: кто вынимал деньги из кармана, кто их пересчитывал, как Левко их отнимал, как в том признавался – и все, все списал и подписал за них, чего они и не думали говорить. Собрав следствие, явился у квартиры исправника.
Тот, выспавшись любезно, вызевавшись, вытянувшись раз десять, встал и велел потчивать себя чаем. Подливая французской водки, пьет чай и курит трубку. Как вот, после седьмой чашки, крикнул:
– Писарь! Поди сюда!
Вошел наш писарь, тихо ступая, и стал у двери, быстро глядя в глаза пану исправнику. А мысль так и бегает у него сюда и туда, что о чем бы то пан исправник его ни спросит, чтобы тотчас и отвечать: о недоимке ли, о дорогах, или о проходящих командах, или о наделении жителей землею; у него все уже подобрано, на все ложь готова – и, как его ни расспрашивай, он изворотится, отбрешется.
– А что следствие? – спросил пан исправник.
– Окончено, ваше бла… тее-то… ваше высокоблагородие! И допрос, и свидетельские показания, и метрика, и обыск…
– Покажи. Это письмоводитель производил?
– Нету, ваше высокоблагородие! Их благородие отлучался ради телесной чистоты в оное место, сиречь, на речку, измыть плоть свою. Так я, дабы неудержанно…
Пан исправник долго переворачивал листы и потом сказал:

