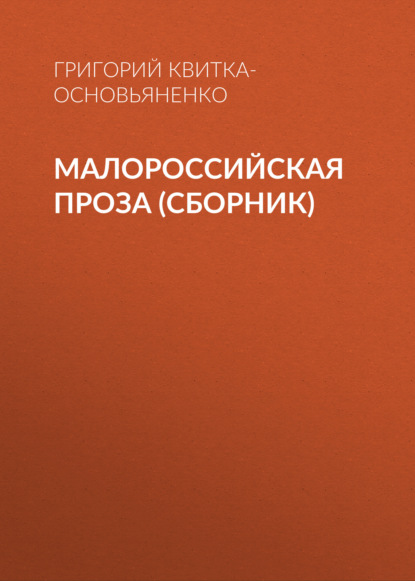 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
Тут и вся туча надвинула прямо на тот лес, где они укрылись, и небо все покрылось словно черным сукном; вблизи себя ничего не можно было видеть. Заревела престрашная буря: шумит под небесами, с воем носится по полю, с ревом упирается в лес, силится с места его сдвинуть, изломать, измять, истереть в щепки!.. Ветви трещат, ломаются, падают… вдруг загуло страшно!.. Пронзительный визг раздается по всему лесу, заглушает гром… и разразилось все страшным ударом о землю!.. Земля вздрогнула! Эта буря повалила столетний ветвистый дуб. Одолев его, сама смолкла, как будто изумляясь силе и могуществу своему… Но вдруг разразившийся ужасный гром как будто пробудил ее и извлек из недеятельности… с новою яростью, с умножившеюся дерзостью после успеха, вторя грому ревом, свистом, шумом, вломилась она в середину леса… нет пощады ничему встречающемуся… вековые дубы валятся от приближения, как трости, прочие разбиты в мелкие щепы, ничто не устоит против нее!.. Неумолкаемые, сильные, потрясающие небо и землю удары грома следуют за опустошением бури, как бы союзники, торжествуя успех! Молния, ослепляя глаза сине-красным светом своим, зажигает деревья, пощаженные бурею! Дождь уже не каплями идет, но проливаясь целыми реками, стремится с своим ревом и клокотанием, наводняет лес, ищет места пощаженных бурею и громом, быстро затопляет их!.. Ужас невыразимый! – точно преставление света!..
Денис не улежит, не усидит и не постоит на одном месте. Ходит, перебегает из-под одного дерева под другое, руки ломает, не помнит сам себя.
– Трофим, Трофим!.. Ты спишь, ты не боишься ничего! – так от страху вскричал он.
– Нет, я не сплю, но и не боюсь.
– Гром убьет.
– Воля Божья! Я это знаю, лежу, но молюсь Богу.
– Неужели он помилует, если молиться?.. Ух! как снова затрещало в лесу!
– Помилует, только покайся.
– Как покаяться такому грешнику? Меня Бог не простит!
– Почему же? Кайся от чистого сердца; твои грехи не так еще велики. Ты так грешен, как и каждый из…
Оба они упали на колени!..
Огненная стрела, в один миг прорезав все небо, ударила в то самое дерево, из-под которого только что отошел Денис и пришел к Трофиму. Дерево было высокое; до половины разбило его в мелкие щепы, и все ветви истерло в прах, что и следов их не осталось!..
Насилу мог встать Денис! Это было от них не далее как саженей десять.
Опомнившись немного, схватил Трофима за руку и начал просить:
– Пойдем, пойдем отсюда! Тут нас Бог убьет!
– Куда же мы спрячемся? Видишь, какая беда везде! В поле не можно быть, нас дождь зальет: в лесу же… вот еще зажгло дерево… видишь, горит! Нигде нет спасения, везде одинаково!
– Ой страшно, страш… страшно! – дрожа ужасно, Денис уже почти кричал. Потом вдруг остановившись, начал всматриваться в одно место и диким голосом спрашивает: – Кто… кто это сидит и смотрит на меня?..
– Бог с тобою! Нет никого. Молись Богу, это лучше.
– Меня и Бог не помилует! – ты думаешь, я ничего не… Ах вот еще зажгло!
– Помилует, говорю, покайся! станем вместе молиться.
– Как мне покаяться! – грехи мои ужасны! – я… я вас всех в селе обкрадывал… других воров не было… все мое дело!.. меня подводили другие… а я воровал и… скрывался, притворялся честным… передавал цыганам… москалям… брал деньги… богател… лавки обокрал… отвертелся… хотел и тебя так вот, как и того, что вон сидит и смотрит грозно на меня! – так говорил, не помня сам себя, Денис, бьючи себя в грудь.
Тут вдруг как осветила их молния!.. Как разразится гром, как будто небо упало на них!.. Оба они упали без чувств!.. Проливной дождь освежил Трофима. Не скоро он пришел в себя, осмотрелся… видит, Денис бегает, бледный как смерть; ломает руки, не помня ничего, кричит страшным голосом:
– Я не только вор, я душегубец… убийца!.. зарезал нищего… думал у него деньги найти… платье свое окровавил только… а он грозит мне… вон он, вон он!.. Господи, ты меня не помилуешь?..
И начал бегать как безумный. Оправяся немного, Трофим встал, начал его уговаривать, чтобы пришел в чувство.
– Нет, – кричит Денис. – Мне Бог смерть даст… меня гром убьет! Я вор! Я притворялся добрым, на других свои вины сводил, тебя хотел зарезать, чтоб ты про лавку никому не рассказал. Теперь говори. Вот меня Бог убьет, а ты расскажи всем, каков я!
– Бог с тобою, Денис, что ты это все думаешь! Поверь не мне, Богу святому, что как побожился я, так и не солгу, сдержу слово, помня свою присягу; не попрекну тебя ни в чем.
Трофим его так уговаривает, а гром так и рокочет, и молния даже глаза палит!
Гремел, трещал гром, потом начал затихать, туча перешла. Перестал и дождь, только молния мешала хорошо видеть около; потом и она, понемногу все слабее и слабее, блистала уже далеко.
Разглядел Трофим, так уже начинало рассветать.
– Пойдем, Денис! – сказал он, – уже мы недалеко от своего села; пойдем скорее…
Возвратился Денис в свое село. Как принаряжен! Еще щеголеватее, чем прежде. Весел, говорлив, шутит со всеми встречающимися. Рассказам, где побывал, что видел, нет конца.
Прибежавшие от стада два пастуха объявили голове, что в таком-то месте недалеко от села, лежит мертвый человек; кто такой? как? и отчего умер? они от испугу не рассмотрели. Голова немедленно послал надежных людей для караула к телу, а в земский суд, сочинив с писарем, рапорт, что «сего течения объявлен человек, по имени и прозванию неизвестный, скоропостижно умершим от неизвестности случая смерти, и оный, поименованный скоропостижно умерший, лежит в сказанном месте благополучно, во ожидании предписаний того суда».
Молва об этом разнеслась по селению скоро. Из хозяев многие были в отлучке, но из их семейств никто не потревожился. Трофимова же мать и жена лишь услышали об этом, тотчас вскрикнули:
– Ах беда! Это Трофим, наверно, Трофим! – сердце весть подало! – сколько они ни просили голову, чтобы дозволил удостовериться, он ли или не он? и когда он, так взять домой или хотя и на месте прибрать его как следует; но голова запретил и думать о том, пока не приедет суд и не развяжет всем рук.
Жители селения, узнав о случившемся, спешили собираться к волостному правлению, туда же пришел и Денис. Расслушавши все толки, тут происходившие, и видя, что назначаются понятые, он сказал голове:
– Дядюшка голова! назначьте и меня, когда я вам угоден, в понятые, для осмотра тела.
– Я хотел тебя просить, чтобы ты согласился. Ты по своему рассудку будешь нам полезен советами. – Так сказал голова, и старики, кланяясь, просили его о том же.
– Хорошо, – сказал он, и прибавил, смеясь: – Мы его осмотрим, рассмотрим, как и чем он убит или зарезан; тут же и свидетелей расспросим, как у них дело было.
Бывшие тут молодые парни даже захохотали и говорят:
– Ах, что это за Денис! У него ко всему шутка готова. Какие в поле свидетели? Сказать бы, деревья скажут, так и нет там ни одного.
– Так есть трава, бурьян, перекатиполе.
Никто не заметил, что он едва мог выговорит последнее слово; и как ни хохотали товарищи шутке его, но Денис, против воли и привычки, смеясь, поспешил отойти от них.
Как вот и колокольчик… сам исправник прискакал, а за ним и лекарь. После расспросов приступили к делу. Исправник, заметив между понятыми присягающего Дениса, сказал голове:
– Зачем в понятых такой молодой парень? Тут нужны старики и добросовестные к тому.
– Это, ваше благородие, – сказал голова, – хотя молодой человек, но у нас и между стариками нет такого разумного, рассудительного, понятного и честного, как он.
– Хорошо же; пусть он при мне будет, неотлучно для приказания и посылок, – сказал исправник; а Денис, видя себе такое отличие, еще более начал франтить и гордиться. На равных себе и не глядит.
Еще и не подошли совсем к телу, как жена и мать Трофимовы, шедшие туда же с другими женщинами, с шестилетним сыном его, закричали:
– Это Трофим, мой Трофим! – и, зарыдав, упали на него. Подошедшие понятые подтвердили то же.
Исправник хотел было немедленно приступить к освидетельствованию тела, но когда жена и мать начали просить его, чтобы позволил прежде всего оплакать покойника, «как закон (обычай) велит», то исправник, подумав, сказал:
– Пускай оплачут его. Кровь не вода; мы свое дело успеем кончить, – и стал подле них с лекарем. И Денис, в шапке набекрень, избоченясь, туда же к чиновникам равняется и, слушая приговоры женщины и материнские над Трофимом, с насмешкою поглядывает на всех.
Горько плакала жена и мать над покойником, единственною их отрадою и надеждою в пропитании. По обычаю, каждая исчисляла в подробности, чего она в нем лишилась и какая горестная, ужасная будущность их ожидает… как вдруг мальчишка, сын убитого, лазя с плачем около тела его, вскрикнул:
– А что это тата так крепко в руке держит?!
Исправник, услышав это, приказал Денису посмотреть и подать к себе. Денис бросился проворно, вынул из руки, посмотрел, вздрогнул всем телом, стер в руке, бросил далеко от себя и стал как вкопанный.
– Зачем ты бросил? – вскрикнул на него исправник. – Что там такое? Покажи сюда!.
– Это… это ничего, ваше благородие!.. это… так – бурьян!.. – говорил Денис, дрожа и бледнея.
– Какой бурьян? Покажи сюда.
– Бурьян, трава… как его зарезали, так он… схватил рукою перекатипо… – и смешался Денис совсем.
– Почему ты знаешь, что он именно зарезан, когда еще никто не свидетельствовал и не осматривал, где у него рана? И почему ты знаешь, что он, умирая, хватался именно за перекатиполе? И почему ты один узнал, что это перекатиполе, когда измятое трудно распознать, что оно есть? Голова! Взять его!
И Дениса, вначале чванившегося своею черкесскою смушковою[269] шапкой, гордящегося, что стал приближенным к исправнику, взяли под наблюдение.
Исправник приказал понятым приступить к телу и свидетельствовать. Действительно найдено, что Трофим был зарезан и более того, никаких боевых знаков не оказалось. Когда же, осматривая, сняли сапоги и в онучах нашли зашитыми пять полуимпериалов, то при этом Денис, забывшись совсем, даже вскрикнул:
– Видишь и не признался! Исправник слышал это.
В то же самое время мальчишка, не понимая ничего, бегая за катящимся перекатиполем, которого – как на то – ветер сносил к ногам, особо стоящего с одним караульным Дениса, схватил один комок и, показывая Денису, спрашивает:
– Что это, дядя? Ты знаешь?
Денис, видя беспрестанно около себя почему-то беспокоящее его перекатиполе и тут же идущего к нему с грозным лицом исправника, слышавшего его сожаление о утайке Трофимом полуимпериалов, до того потерялся, что, крепко отпихнув от себя мальчика, вздумал было бежать, но по приказу исправника тотчас был схвачен.
– Довольно! – крикнул исправник. – Это твое дело! Ты, не видевши еще, знал, что Трофим именно зарезан. Ты пожалел, что не знал о полуимпериалах; боишься перекатиполя. Отчего это? Говори всю правду, как было дело?
Еще было Денис принимался отлыгаться, но чуть только он начнет запираться, то исправник прикажет подносить к лицу его перекатиполе… Денис побледнеет, задрожит, собьется в словах, наконец, запутавшись и сбившись во всем, был изобличен решительно и понуждаем от исправника, вздохнув, перекрестился и начал говорить:
– Грешен Богу, государю и вам, добрые люди! Не одно это мое дело, – и он со всею искренностью пересказал то, что мы уже знаем.
– Когда гроза утихла, – продолжал Денис, – мы пошли. Утро, после грома, было веселое, солнце всходило чисто, ясно; травка ожила, птички перелетывали, щебетали… но все это меня мучило! к тому же, и Трофим был необыкновенно весел. Видя меня унылого, мрачного, он старался развеселить меня, рассказывал, что уже мы очень близко от своего села, и понуждал меня скорее идти. Говорил мне, какую он радость несет домой, как устроит свое семейство, как заживет, выйдя из бедности!.. Всякое слово его было для меня острым ножом в сердце!.. Я понял, что у него денег, конечно, много; я же, не неся их домой, какую скажу тому причину, почему не заработал ничего? Тут невольно Трофим разболтается, скажет обо мне, что знает, – и я пропал! Мысль эта тяжко насела мне на душу, стеснила сердце; а тут веселость Трофимова, которую приписывал я торжеству его приближающейся моей погибели, так взволновала мою кровь и привела в такое бешенство, что я, не помня ничего, кинулся на него, повалил его на землю, одной рукою и коленом держал его, а другою рукой спешил вынуть из сапога нож свой, которым я во всю дорогу резал Трофимов хлеб и только им прокармливался…
Господи! Как умолял меня Трофим пощадить его! Заклинал Богом, спасением души моей, умолял матерью, женою, детьми своими пощадить его! Давал страшные клятвы, что он никому ничего не скажет… Я не внимал ничему и торопился достать нож, далеко в сапог запавший.
– Дай же мне хоть помолиться Богу! – стоная, просил он.
– Помолишься и на том свете, – лютуя, как кровожадный зверь, говорил я. Он же, подняв глаза к небу – так и вижу этот взгляд его – сказал: «Не несет Бог никого, кто бы был свидетелем моей невинной смерти!» Тут прикатилось к нему это проклятое перекатиполе… он взглянул на него и сказал: «Господи Боже! Поставь перекатиполе свидетелем моей смерти!..» Признаюсь, мне стало так смешно, что он такой пустой, дрянной траве предоставляет свидетельствовать на меня… и я расхохотался и сказал: «Пускай свидетельствует, сколько хочет. Знал, на кого и сослаться». Трофим, видя уже в руках моих готовый нож, вспоминал Бога, жену, мать, детей, я ничего не слушал, мне смешна была мысль его о перекатиполе, я хохотал… и сам не очувствовался, как от удара моего ножом по горлу его кровь хлынула мне прямо в горло и заглушило хохот и проклятия мои, готовые излиться на него!
Мне не казалось, но я именно видел купы проклятого перекатиполя, ветром принесённого к Трофиму. Умирая, он схватил один комок и сжал его… я еще промолвил: «Держи крепче свидетеля, чтоб не ушел». Поспешно обыскал его и, найдя в полах свиты зашитых несколько целковых, отрезал и спешил убежать оттуда. Что же? Признаюсь вам, люди добрые, в этот страшный для меня час перекатиполе преследовало меня, куда бы я ни бежал; во весь тот день ветер гнал его за мною, гнал также и на другой день, до самого села. Но я все смеялся и полагал, что ни по чему не будет открыто мое преступление. Бог привел иначе! Вот все мои деяния. Пусть судит меня Бог и государь!
И Дениса осудили по заслугам.
Г. Основьяненко.
Повести, не включенные в авторские сборники
Козырь-девка[270]
Посвящается Ольге Яковлевне Кашинцевой
Ничем мы так не согрешаем, как осуждением ближнего. Увидим человека, идущего по улице, – уже мы и знаем, куда и зачем он идет; задумался – мы поняли, что у него на мысли, и тотчас осуждаем: чего бы ему за таким делом идти? Можно ли иметь такие мысли? Прилично ли такому человеку то и то предпринимать? И так осудим, так оценим его, то припишем, что ему подобное и на мысль не приходило!
Наше ли это дело? Поручено ли нам присматривать за другими? Эх, будем знать сами себя; про других же, хоть что наверное узнаем или сами увидим, оставим без внимания, потому что случается иногда, все говорят и нам кажется, что вот тот-то сделал то и то; он слышал от другого, а третий видел сам… Когда же придет к делу, так и откроется, что это сделано было не ко вреду, а на пользу общую; или если сделан кому убыток, то часто открывается, что не тот виновен, кого подозревали, а вовсе другой, на кого и не думали.
Вот так-то было пришлось одному человеку вместо виновного, и, если бы не девка выхлопотала, он бы погиб навсегда. Да и девка, точно, «козырь» была! Отец ее, Трофим Макуха, очень уважал ее, и что было Ивга (так звали ее) скажет, то уже – по по словице – и к ста бабам не ходи, потому что будет, как сказала Ивга.
Хорошо было старому Макухе положиться во всем на дочь и еще разумную, потому-то он и выигрывал много: она была сметлива, расчетлива, изворотлива; еще ты ей намекни только, а она уже и рассчитала, что, куда и для чего. А выдумать или придумать, как устроить что – Макуха только спросит дочери, она ему даст совет и во всем полезный. Оттого-то и все хозяйство шло лучше, нежели у кого другого. Еще только он женился, то, послушав жены, оставил хлебопашество, а принялся за промысел: торговал дегтем, солью, иногда хлебом и всем, чем только случалось. Не оставлял шинкарства, но не открыто, для каждого, а только для проезжающих. Он держал постоялый двор – так тут уже, известно, все нужно было иметь, затем что извозчики и фурщики требуют всего, и только умей лишь распорядиться, так и будет доход.
Если бы сам Трофим Макуха в своем хозяйстве вел порядок, то скоро бы у него «в великой хате» и «в комнате», что для проезжающих устроил, от пустоты завелись бы воробьи, а в амбарах, что на дворе его стояли наполнены овсом и всякою мукою, так там бы одна паутина только была. Я же говорю, все перевелось бы у него и не собрал бы ничего, если бы управлял сам, потому что он был себе… так… бог с ним! Не очень разумел, как, что и когда приготовить; и – как говорят – когда выходит из топленной хаты, то дверей не запирает, к чему тепло? А того не рассудит, что и в натопленной хате без присмотра выстынет скоро. Когда стоит в огороде стог сена, а в амбаре есть овса четвертей десять, так он и не думает больше, и полагает, что этой одной провизии ему на десять лет станет, а потому и сидит руки сложа. Так тут Ивга и бросится: туда пошлет, сюда сама сбегает, там купит, там наймет, тут подрядит – и все у нее запасено, все есть. Вот и говорю – хорошо было Макухе жить так беспечно, при такой дочери!
Не знаю также, свел ли бы он концы, если бы хозяйничал с сыном своим, Тимохою? Вот был молодец! За его распоряжением едва ли не спустили бы и всего имущества. Тимоха был лихой малый: высоко подбривал чуб, усы закручивал, не знал свиты, а всегда жупан, и то суконный, то и китайчатый; пояса один другого краше; шапка одна будничная, другая праздничная и одна другой выше; сапоги одни на ногах, а другие уже и мокнут в дегте, чтобы, как вздумал, так и щеголять можно; одни с высокими подковами, а другие на гвоздочках. Кто идет по улице и песни поет, кто верховодит в шинке, кто шинкарю посуду разбивает, кто за десятерых выпьет и не пьян? Никто, как Тимоха Макушенко! От кого девки уходят и шинкарь прячется? Ни от кого же больше, как от Тимохи Макушенко! О, да и удалой был на все злое! Пьет смертную чашу, дерется с кем попало, девок обманывает; когда сядет играть в карты, у всех берет деньги и растаскает их по шинкам да по вечерницам. С волостным писарем были задушевные друзья, и что-то между собою затевали… К тому же был ужасный вор. Ивга, бывало, бережется от него, как от татарина: что ни увидит у нее, все потянет. А у отца, что только захочет, все выпросит, потому что отец очень любил его, и нежил, и тешил всем, чего захочет, все оттого, что он у него один сын, так пускай, думает, дитя нагуляется, пока молод, и потом вспоминает, как ему было хорошо жить при отце. Бывало, Ивга иногда и поспорит, и не даст, и на отца начнет нападать: зачем дал такую волю сыну? – то он, хотя будто и раздумает дать, но после, тихонько, все-таки даст ему денег, сколько сын желал.
Хорошо было и Тимохе гулять и своевольничать при таком отце, и хотя всяк видел, что Тимоха – большой бездельник, и каждый знал, что в селе все беды от него, но никто ему не смеет сказать ни полслова, никто не удерживает его, никто не жаловался на него начальству, потому что он был сын богатого отца… Ведь и в селах такая же правда, как и в городах: кто богат, тот может делать, что хочет – хоть посреди дня вверх ногами по улице иди, никто не посмеет его удержать; но еще, глядя на него, и сами будут подражать ему.
Хотя и был на Тимоху гонитель, знавший про все его бездельничества, так не было ему воли. Это был Левко, приемыш старого Макухи. Еще покойная жена Трофимова, Горпина, прослышавши, что от умерших отца и матери осталось семь сироток, и как их начали люди разбирать, то и она, как сына, взяла к себе годового ребенка, вот этого Левка.
Хоть и сирота был Левко, но ему было хорошо: был обмыт, прибран, каждое воскресенье давалась ему и беленькая рубашка, и мягкая булочка; на зиму были сапожки и, хотя старенький, но был и тулупчик. Горпина была женщина сострадательная и богобоязливая, не жалела ничего для бедных. Нищие не только своего села, но из других мест, бывало, идут к ней, как к матери: кому грошик подаст, кому «паляничку» (булочку), кому платочек, а никого без подаяния не отпустит. Так, уже взявши на руки этого сироту, крепко любила его, и наиболее потому, что Тимоха, сын ее, не любил его, и как на года два был старше Левка, то и тормошил его часто и бивал порядочно. Мальчик жаловался Горпине, та побьет Тимоху, Тимоха жалуется отцу – и старик, в свою очередь, бьет того же Левка; за Левка вступится старуха и ворчит на мужа. Как же муж был плоховат и против жены не смел слова сказать, так хотя и смолчит жене, а таки, где попадет Левка и есть ли за что или нет, тут его и потаскает, и запретит жаловаться Горпине. А тем так напугал бедного сироту, что только еще Трофим взглянет на него грозно, так он уже и дрожит. И не только боялся старика, но не меньше боялся и Тимохи, чтоб сам не побил или не наговорил отцу. Видевши же, что старики часто ссорятся за него, так он и не смел часто жаловаться Горпине, а облегчал свое горе, рассказывая Ивге о всех бедствиях, им претерпеваемых. Ивга была лет на пять моложе его, а потому и она не могла доставить ему никакой отрады и только было плачет с ним.
Горпина была полная в доме хозяйка, и все шло по ее распоряжению. И, знавши мужний нрав, ничего ему не поручала. Пока могла, приучила ко всему Левка, а когда подросла Ивга и видно было, что она имела способности к хозяйству, то и ее приучила к своим занятиям: наставляла ее, что, где и когда заготовлять, как обращаться с заезжающими к ним на постоялый двор, чтоб они и впредь останавливались у них же. Отдала им ключи от всех кладовых; у них на руках был и хлеб, и сено, и все по хозяйству; у них деньги и весь расчет, а она только распоряжала. Хотела было и сына приучить, но как заметила, что он, Бога не боясь, проезжих обмеривает, и обвешивает, и обсчитывает, а сам, упившися, заводит с ними ссоры, а иногда и обокрадет, так было такую славу навел на свой постоялый двор, что люди оставили было его совсем. Тут спохватилася Горпина, перестала давать ему волю, а, умирая, все хозяйство препоручила дочери и во всем порядочно наставила ее, Левка же препоручала всем им, чтобы они содержали и не обижали его, а когда захочет стать хозяином сам, так и отпустить его:
– А ты, доня, всем снабди его на новое хозяйство; ты знаешь, сколько он нам был полезен и сколько мы его старанием имели прибыли, – так соразмерно тому и награди его. Когда же подумаете да, не расходясь, «одружитеся» (женитеся), то очень хорошо сделаете. Будете вдвоем хозяйничать, не дадите отцу известись! А Тимохе не дайте воли, а иначе он и тебя, доня, продаст, отца пропьет и все имущество растратит.
После смерти ее Ивга приняла все хозяйство на свои руки и не допускала отца распоряжать по своей воле. Когда же вступят какие деньги, то отдавала их отцу и, знавши его хорошо, что он привык к принятию приказаний, строго подтверждала ему, ни на что ненужное и без ее совета денег не тратить – что он и исполнял, как прежде приказания жены своей. Старик любил и баловал Тимоху, а оттого не мог отговариваться, когда он выпрашивал у него сколько денег, но Ивга это запретила и назначила отцу, сколько на месяц выдавать сыну. Отец так и делал… Надолго же Тимохе тех денег! Тотчас в горелке их и проглотит или всячески прогуляет, а там и нуждается до нового месяца. На Левка же всегда аспидом дышал, полагая, что чрез него так делается, и, видя, что хотя он и приемыш, но волен всем распоряжать, а он, сын, не может взять ничего, – начал еще больше наговаривать на него отцу, а тот беспрестанно нападал и ругал его при каждой с ним встрече, до того, что бедному Левку нестерпимо было. Он бы и отошел от них, так полюбились себе с Ивгою и она дала ему клятву, лишь только женит брата и отделит его и отца при нем устроит, тогда же выйти за него и завести свое хозяйство.
Ожидая того, Левко терпеливо переносил все гонения от Макухи, занимался своим делом и приобретал собственные деньги.
Как ни удалялся примечать за Тимохою, но – слыша и зная, как он пьет, гуляет, проматывает деньги, ссорится, сделал какую-то большую беду, но волостной писарь покрыл все, и Тимоха обещал выдать за него сестру с большим награждением – решился про все это сказать отцу. Так что же? Тот не поверил и обратил, что будто Левко из ненавис ти наговаривает на Тимоху. Левко привел тех людей, у кого Тимоха что украл или обидел кого, но старик все-таки не поверил и почел, что эти люди научены и напрошены Левком сказать на Тимоху напраслину. Левку нечего было делать, молчал, хотя и хуже дела начали оказываться за Тимохою.

