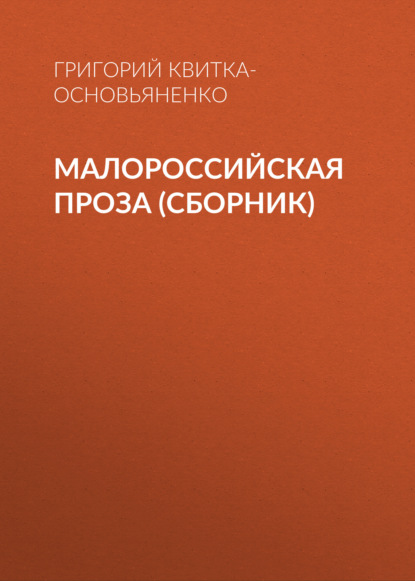 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
– Следует же, Лукьянович, что Назарова сказка осьмидушная, – сказал один из стариков, у кого была сказка десятидушная.
– Говори, голова, осьмидушная! Так, когда же семь не стоят ничего доброго: старик, да калека, немощные, да маленькие. Вот такая сказка!
Так говорил Захарий, всё-таки думая, что он их переспорит. Как же подняли все крик в один голос:
– А нам что за нужда! Нам велят. Вот сказка большая, и бери с Назара…
– Так вывезите же меня прежде всего, за живота, вот туда, в провал, чтоб я не терпел беды и не видел бы, как моя кровь, мои болящие сыновья, да маленькие внуки, будут страдать и пухнуть от голоду и умирать не своею смертью!
Так говорил, горько плача, Назар, отец Терешков. Потом как бросится перед ними на колени, упал к ногам головы и богатейших стариков, каждому целует ноги и жалобно просит:
– Не осиротите моей старости! Не отрезывайте у меня правой руки! Хвалю Бога, пять сыновей имею; да что же с них, когда они немощные, не смогут, не пропитают и себя, не то чтобы меня, с калекою и со внуками! Вы будете душегубцы и мои, и вот этих сирот…
– Батюшки, голубчики! – отозвалась жена Терешкова, вбежав в ратушу, как бы не в своем уме. Маленькую девчонку на руках несла, а двух мальчиков, один по осьмому, а другой по седьмому году, ввела за собой и бросилась к ногам стариков; а на нее глядя, и мальчики приняли да жалко плачут, а женщина просит:
– Батюшки, голубчики, соколики! Громада честная, и ты, пан голова! Что это вы хотите со мною сделать? На что мне свет завязываете? Лучше разом побейте вот этих детей! Куда я с ними денусь? Кто их пропитает и на разум наставит? Кто отца старого прокормит, и кто оплатит за него подати? Сыны? Так тот калека, а те – от ветру валятся; а эти, маленькие крошки, что только свет божий начали разуметь, да уже пришлось им и горе терпеть! Прошу и молю вас: лучше мне смерти причините, а мужа оставьте: он их пропитает и лучше присмотрит, чем я. Да знаю, что и я скоро свалюсь… Не грех ли вам тогда будет? Боитесь ли вы Бога милосердного? Вспомните, что и вам надо умирать! Как вы будете отвечать, что столько душ разом погубляете…
И что-то, господи милостивый! – как-то она жалобно просила, да горько, от сердца, плакала!.. А тут с другой стороны, старый, седой, как молоко, человек, от горя совсем изнемогший, тоже на коленях стоит и землю смочил слезами, да просит, как женщина за плачем переставала говорить. А тут мальчики себе знай кланяются в ноги да тоже просят; старшенький говорит:
– Не берите у нас тату! Мы пропадем без него, и мать, и дедуся!.. Пускай я выросту, так я пойду за него…
А меньший перервал его и говорит, пришептывая как дитя:
– Пока еще братец вырастет, я теперь охотою пойду в москали, только тату отпустите.
И много там такого было, что рассказывать душа болит. А старики что? Таки ничего. Сидят себе надувшись, да палочками землю ковыряют, и не очувствуются, потому что как Терешка освободить, так должно будет из них у кого из семьи рекрута назначить. Что им за дело? Хотя всю семью погубить, лишь бы своих защитить.
Как вот голова не вытерпел; видно, печенки под сердце подступили и ему крепко уже хотелось обедать; вот он и закомандовал:
– Да полно же, полно! И до вечера всего не переслушаешь. Десятские! берите Терешка!
Господи милостивый! Старый Назар так и упал бесчувственный; жена как бросится на Терешка, так и обвилась около него и уже кричит, а не плачет. Сыночки цепляются за отца, выхватывают от десятских его руки, ноги, всего его заслоняют, десятские безжалостно их отпихивают, хотят Терешку связать руки… Плач, крик, рыдание!.. страсть одна!
Костя стоял особо от всех да только смотрел на все, что тут творится, а сам бледен как полотно… Видит, что всему конец; перекрестился, подошел к Терешку и, одним взмахом руки далеко отшвырнув от него десятских, взял его за руку и, отдавая жене, сказал:
– Возьми, сестра, детского отца. Живите себе! А сам подошел к управляющему голове и сказал:
– Я иду за него охотою: отпустите его!..
Да с тем словом бросился к ногам Захария, обнял их крепко и твердым голосом сказал:
– Отец мой родной! Не помешай мне в этом деле!.. Благослови меня на новую жизнь!
– Что… что это ты, сын, задумал?.. – едва ли мог проговорить Захарий, да, не могши устоять, присел на лавку.
– Хочу долг свой отдать, – сказал Костя также бодро, – как вы меня пожалели, от видимой смерти освободили, так я теперь хочу их защитить. Иду за него охотою служить Богу и государю. Не препятствуй мне, тата; благослови меня.
– На то же ли я тебя призрел и вскормил, чтобы ты меня, при старости, на краю гроба, покинул без всякой помощи, как былинку в поле, на все горести и печали? – говорил Захарий и плакал.
Какой бы бесчувственный мог равнодушно смотреть на старика, от истинной горести плачущего кровавыми слезами?.. Из-за таких слез Захарий еще говорил:
– Взгляни на Бога! Побойся его и за то добро, которое я, может, думал сделать тебе, не отдавая нестерпимым горям! Ты меня живого кладешь в могилу! Ты мое сердце рвешь на части!.. Грех тебе!
– Нет мне, тата, никакого греха.
Так говорил во весь голос Костя. Старики же все так и обступили их, и слушают, что с них будет. Терешко же стоит словно деревянный, не понимая ничего, что делается тут. Жена его упала перед образами на колени и мальчиков своих поставила; и, не зная, чего ей желать, только смотрит на святые иконы и не может выговорить ни слова. Мальчики, тоже не зная, что делать, кладут себе поклоны!
Ангелы святые верно здесь летали и радовались, видя тут происходящее!
Костя же продолжает свое:
– Нет мне тут никакого греха. Ты избавил меня от смерти не для себя, а для мира Божьего, для всех людей. Как же я, видя, что могу избавить этих детей от сиротчества и от такой смерти, от какой меня избавили, как бы я только смотрел на это и не помог бы им? Я одинок: никто чрез меня не пострадает, а Терешко загрустился бы, оставив семью… Семья – дело великое!
– А про меня, про мое сиротство в старости, про мои немощи ничего не подумаешь? – сказал горький старик.
– Бог свидетель, что, оставляя вас, сердце мое точно решится тупым ножом и к тому еще раскаленным! Жаль мне вас! – сказал Костя и поспешил стереть слезу с глаз. Потом так же твердо продолжал:
– Не одни вы, тата, остаетесь. Добрые дела с нами, сиротами, и с другими призовут на вас милость Божию. К тому же сестра моя, Мелася, уже в таких летах, что вот-вот выйдет за хорошего человека. Вот вам и сын будет; они вас присмотрят и не доведут вас потерпеть никакой беды. А вот же и еще. Терешко, иди сюда. Я иду на труд, на нужду и – воля Божия! – может быть, и на смерть! За это дай мне на дорогу одно только спокойствие; больше мне ничего не надо. Прими моего отца, мою радость; прими его на свои руки. Уважай его, береги, не доведи его ни до какой нужды…
– Костя, мой милый, утеха моя! – стал его старик еще обнимать да просит:
– Одумайся, что это ты делаешь? На какое мучение идешь? После раскаешься, будешь и на меня жалеть…
– Отец! Я не ветер какой, я не мальчик. Я разумею, на какое великое, на святое дело иду. Иду за брата, за его деточек; иду за тебя, таточка! Бог, видя мое дело, тебя не оставит и наградит. Иду за весь мир христианский; готов кровь проливать. Убьют меня – заменю тем какого доброго человека; а мне, по такой смерти, Бог царство даст, как мученику!.. Нет, тата, не держи меня. Если послушаю тебя, останусь с тобою; каково ж тебе будет смотреть на этих сироточек? Пусть не пропадут они: мы их возьмем; но им отца, а матери их мужа не возвратим.
И что-то ему много такого разумного говорил, что уже Захарий не знал, что и отвечать ему. Всплакнул горько, поднял руки к Богу, помолился усердно и сказал:
– Бог милосердный, сохранивший тебя от явной смерти для этого часу и давший тебе такую добрую душу, тот с небес, видя твое желание, да благословит тебя рукою меня грешного.
Потом, обняв его крепко, заплакал сильно и сказал:
– Горько мне… и радостно!.. Служи, сын! Верю и надеюсь, что за такое дело Бог тебя не оставит!
– Бозя! Не оставь моего дядю, Костю! – услышали тут же крикнувшего меньшого мальчика и поднявшего ручонки свои к Богу. За ним и старшенький, и мать, и Терешко бросились класть земные поклоны и молить Бога, чтобы не оставил своею милостью защитника их. Старый Назар, все молившийся на коленях, не вставая, приполз к ногам Кости. Тот поднял его, и обнялись себе. Назар долго ему смотрел в глаза, все держа за руки, потом сказал:
– Человек ли ты? Нет, ты ангел, посланный Богом спасти нас.
И много-много благодарил его, что возвратил его на свет божий! Нельзя того ни рассказать, ни написать, что там было! Какая благодарность Косте! Какая молитва за него!.. А он же то: веселенький, довольный, будто какое счастье нашел; всех целует, всех просит, чтоб присматривали за отцом его; бросится к нему, станет его утешать, чтоб не тужил за ним, чтоб не жалел на него, да все такими разумными словами, что даже довел до того, что старик сказал:
– Теперь я и сам вижу, что ты очень великое и доброе дело сделал! Я уже не тужу, а прошу Бога, чтоб тебя сохранил и дал бы мне еще повидать тебя!
– И увидите, и порадуетесь обо мне. Будем еще и в счастье жить, – говорил Костя и всем распоряжал, что было его: то дарил кому, то отцу оставлял на его нужды; все сбывал, а сам, как будто на радость какую, собирался – проворненький, веселенький, даже бегает.
Голова не приказал его ковать в железа, хотя он и рекрут был: тогда еще было такое обыкновение. Голова рассудил-таки, что такой не уйдет и что надо дать ему свободу и время, чтоб устроил все в хозяйстве. Вот Костя и был в доме; а туда, кроме Назаровой семьи, смотревшей на Костю, как на избавителя своего, сошлись все родные и знакомые. И чего ж не сложили ему? И денег немало, и холста, и платков, все то ему на дорогу: так Костя ничего же и не берет.
– Не нужно мне, – говорит, – ничего. Мне не так, как вам: мне все будет государево!
Вы же думаете, что Костя без всякой печали шел на службу? Куда! Уж разве очень запрячется от всех, чтобы никто-никто его не увидел и не заметил ничего, так тут только остановится, задумается: потом руки сцепит, вздохнет, поднимет глаза к Богу, как будто и слезинка в глазе покажется: он поскорее оботрет ее, перекрестится и, сделавши веселое лицо, бежит ко всем, как ничего не было и бросится к Терешковым детям, и станет ласкать их… Что у него за мысли были, что за скорбь? – неизвестно.
Управившись дома и распорядившись, что нужно, пошли к Меласе объявить и – проститься с нею. Что уже там было, и не приведи господи! Сначала она не поверила и приняла за шутку, потому что Костя, с шуткою пополам, сказал ей о своем намерении; но когда увидела Захария плачущего и других родных, пришедших тут, так и упала как неживая. Насилу привели ее в чувство, брызгали на нее водою. Она все и просила, и молила брата, и к ногам его, плачучи, припадала, чтоб раздумал и воротился. Чего-то она ни делала, чтоб его умолить!
– Когда, – говорит, – деньги нужно положить на выкуп тебя, то вот мои все, вот двести рублей, что барыня надарила… вот мои серьги, перстни, платочки… Всего лишусь, все отдам, чтобы тебя если можно выкупить.
– Нет, сестра, – говорит Костя, – у солдата непродажная душа. Нет той цены, чтобы за него заплатить. Да чего ты тужишь? Я говорил тебе, что мы – «Божии дети» – не будем оставлены. Ты же иди за Антона Васильевича; живите счастливо, а обо мне не убивайтесь. И не очувствуемся, как я свой срок выслужу, ворочусь и буду твоих детей учить и помогать им.
Расслушав, по какой причине Костя идет в солдаты, барин, подумавши, сказал:
– Великое дело твое, Костя! Бог и тебя сохранит, как ты захотел сохранить малюток от сиротства.
Барыня же так попрекала, зачем старого отца оставляет… и сё, и то, и прочее говорила.
Хотела не хотела Мелася, а вырвался от нее брат, облитый ее слезами. И что-то и господа плакали, провожая его. Костя прощался со всеми до единого, с кем был знаком; был весел и еще шутил кое-что; как же Мелася сказала:
– Иди к Марфуше. Она плачет за тобою, что и господи! Даже слегла и не может выйти к тебе. Зайди, попрощайся с нею…
– Пускай после, – сказал Костя сестре отрывисто и нахмурился крепко. Утром отслужили молебен, окропили Костю святой водою и поехали в город. И что-то за удивление было людям, что рекрут идет и не в железах, и без караульных, и без отдатчиков[236]. Они поехали вперед приготовить бумаги, а рекрута провожают одни родные, и он идет, словно в гости куда, идет проворно и весел себе.
Приехавши в город, тотчас пошли в привод. Судящие выкликали сказку Назара Скибы. Так и было подано прежде всех.
Вошел Костя бодро, весело, живо.
– Наемщик? – спросили судящие.
– Наемщик, ваше благородие! – сказал Костя.
Майор, уланский приемщик, тотчас встал к нему и спрашивает:
– За сколько нанялся и сколько денег получил? Да осматривая и повертывая его, сказал:
– Вот славный молодец! Костя ему и отвечает:
– Я денег не буду получать; а еще остаюсь ему должен. Это, что иду за его семью, так и десятой доли не отдаю того, что должен.
– Как так? – спросил майор, и все судящие приступили слушать, что это такое.
Тут Костя и рассказал все: как Захарий спас его с сестрою от видимой смерти, как воспитал и сестру пристроил и как, было, Захарьевым родным пришла беда: так он, за его благодеяния, и чтобы спасти малюток от сиротства, а семью от разорения, пожелал охотою идти на службу.
Все похвалили его и, не очень рассматривая, приняли его, забрили лоб, привели к присяге и мундир рекрутский надели на него.
Говорят, что подметил кто-то, что когда выбривали Косте лоб, то будто у него скатились две слезы. Конечно, бритва была не так остра и сделала ему боль? Может!.. Но он, став солдатом, сделался еще веселее. Майор полюбил его и спрашивал:
– Хочешь ли остаться при мне? Я сделаю тебя счастливым.
– Как прикажете, ваше высокоблагородие! – отвечал Костя, вытянувшись по-солдатски. – Только в денщики не желаю.
Майор засмеялся и уверил его, что он не будет в денщиках, а будет при нем списки и всякие бумаги писать. Костя этому очень обрадовался и не пошел с прочими, а остался при майоре.
Когда же приняли его и он, немного осмотревшись, сбегал к отцу и к сестре повидаться с ними.
Старый Захарий обрадовался, увидевши еще Костю, но и всплакнул, что уже он теперь совсем солдат и в мундире, но Костя развел его печаль. Сестра же – так сохрани Бог! – как плакала, что брату лоб забрили.
Как на их счастье, Костин майор да полюбил барышню, дочь тех господ, где Мелася жила, и Меласю знал, как сестру Костину, а через то больше жаловал его. И как майор ездил к своей барышне всякой день, то иногда брал и Костю с собою или посылал его с письмами. Так вот Костя, как будто и не расставался с своими: часто у них бывал, и уже отец и сестра его меньше о нем тужили.
Вот майор и женился на барышне, а потом и Меласю отдали за Антона Васильевича, что крепко себе любились. А что свадьбу господа ей сделали – так-так целую неделю гуляли то у господ, то у молодых в городе. Господа наделили свою Меласю, чем только вздумали; а что уже у мужа своего нашла всякого добра, так, и именно, по шею в золоте сидела. Костя очень радовался, что Мелася была так счастлива. Поживши между ними, когда уже и майору подобно было ехать в полк – а полк был поселен не так-то далеко, тогда расстался уже Костя с своими, настояще при расставании поплакали все вдоволь-таки.
Прошло лет пять. Костя служил хорошо. Майор, его начальник, любил и жаловал его за исправности во всем. Он майору, когда случалось, и бумаги писал, и службу исправлял на похвалу перед всеми. Все начальники знали его за славного улана и за то любили, что с дурными людьми и с бездельниками он не водился.
Не без того бывало, что майор подметит, что Костя грустит; вот он и начнет разговаривать с ним, а иногда сыщет случай отпустить его к родным, где Костя всегда провожал в радости, видя, что Мелася живет хорошо, любима мужем и что как ни было старому Захарию у Терешка жить, – о! там ему в глаза смотрели, чтобы во всем ему угождать, – однако перезвала его к себе, и обое с мужем покоили его старость.
Как вот поляки – ни с того ни с чего, а больше с жиру – взбесились, да с дуру, как будто с печи, вздумали отбиваться от наших. Надо их проучить, чтоб не умничали. Вот и послали против них, какие были ближние полки. Вот и этот, где майор был, пошел, а с ним и Костя, который к этому торгу и пешком бежать готов был. Словно на свадьбу куда танцевать, как он на войну шел. Провожали его – батюшки! – и сестра, и старый отец, и все знакомые, как на видимую смерть. Известно, что мы, остающиеся, провожая войско, думаем, что уже ни один из них и не воротится; а выходит, что и ничего! Наши проучат неприятеля славно и воротятся в добром здоровье. А когда шли против поляков, то не над чем было и рук марать. Так нашим же женщинам да и нам, домоседам, что серо, то и волк; выстрелило ли там что из пистолета, а мы думаем, что уже убили кого-нибудь. Вот потому-то старый Захарий и Мелася крепко горевали за Костей и каждый день молились Богу за него. Мелася же и своих деточек, что уже двоих имела, да и Терешковых все заставляла молиться, чтобы Бог сохранил его от смерти и от всякой беды и послал бы ему счастье. Мелася думала, что когда он пошел за детей страдать, то Бог и не оставит его, услышав детскую молитву.
Наши били поляков славно. Не миловал их и Костя. В скольких был уже баталиях – и все подле своего майора – и Бог выносил его целым; да еще, за его смелость и храбрость, все знали его, и генералы жаловали, знавши, через что он пошел в службу. Уже пожаловали его унтер-офицером, а там он и крест получил; а уланы так всегда говорили:
– Ничего не боимся, когда Костя с нами!
Раз майор с своею командою был послан, и Костя с ним, как и всегда. Как вот наткнулись на поляков, что сила силою била! Увидевши, что улан немного, поляки осмелились и кинулись на них, крича, что всех покрошат. Майор послал к своим, близко бывшим, чтоб дали помощи, а сам начал обороняться. Рубились-рубились, и как-то майора – что был впереди – окружили поляки, чтобы заполонить его.
Костя видит, что беда, крикнул:
– Пропадем без командира! Все помрем, а выручим его. За мною, уланы! Кинулись уланы живо помогать майору, который, отбиваясь один, был изранен; а начальник поляков то и дело кричал:
– Изрубите его, а улан и без того искрошим!
Как тут Костя, не помня себя, кидается в кучу, пробился, схватил падающего майора и выпихнул его к своим – да сам тут же и упал! Как на то набежала наша помощь. Ляхов всех до единого тут и иссекли. Майора понесли к лекарям лечить. Бросились и между убитыми искать Костю, потому что вселюбили его: нашли его, сердечного; в голове рана большая, и левая рука, по локоть, отрублена; но еще жив. Чрез детскую молитву Бог спас его!
Принялись его лечить и вылечили совсем; только, уже без руки, служить не мог никак. Описали всю его храбрость, и как спас майора, начальника своего, и послали бумаги. Вот и пожаловали ему офицерский чин в отставку. Так-то родительская и детская молитва держит человека на свете!
Какая же то радость была, когда увидели его Захарий и Мелася, что уже воротился совсем из службы! А тут еще он и благородный, и крест имел, и сказано, чтобы за его калечество царское жалованье давать ему по самую смерть. Уже рады, да рады были, и все Бога благодарили, и раздавали много на бедность. И было из чего!
А те господа, что Меласю воспитывали, приняли Костю, когда он к ним явился, как благодетеля, что избавил от беды зятя их. Вот и их добро, что они сделали Меласе, не осталось так!.. Посадили его с собою за стол и не знали, как ему и благодарить!
После обеда Костя, взявши Меласю, пошел здороваться с приятелями, что жили тут во дворе. Вот Костя всех увидел, всем доброе слово сказал, потом и спрашивает, с запинкой, сестру:
– Где ж твоя… приятельница… Марфуша?
– Але! – говорит Мелася, – она, как и пошел ты от нас, все тужит по тебе. Сколько ни сваталось за нее хороших женихов, она и слышать не хочет ни о ком! Поклялась до смерти любить тебя. Теперь сидит у себя и ожидает, спросишь ли ты об ней, и все плачет.
Видно было, что Костя этому очень обрадовался. Схватил за руку сестру и сказал:
– Пойдем же к ней скорей.
Вот, вошедши Костя к ней, прямо и говорит:
– Почему ты думаешь, Марфуша, что я тебя не люблю? Я тебя крепко и от всего сердца любил, как стал на ноги. Не говорил же и не показывал того затем, что не знал, куда меня Бог поворотит и какая моя судьба будет; а чужого века заедать, завязывать тебе свет – я никак не хотел. Идучи в службу, горько мне было и тебя оставлять: потому и не простился с тобою, чтобы ты чего не заметила. Грустил я и о тебе и все боялся, даже сюда подъезжая, все боялся услышать, что ты замужем. Теперь же, как все кончилось и я вольный казак, ты меня также любишь, так теперь кончим то, что я тебе, Мелася, говорил: пускай после! Согласна?..
Еще Костя и не договорил, как уже Марфуша кинулась ему на шею и вскрикнула:
– Костинька!.. Соколик!.. Лебедик!.. Я и любила тебя и люблю, меры нет!.. Не покинь меня… Я твоя повек!
– Ну, когда так, так пойдем же к господам, – сказал Костя. И все трое пришли к ним и, по обычаю, упали в ноги. Господа тотчас отгадали, что это есть, и поблагословили их, и тут же начали рассчитывать, когда и как свадьбу их сыграть.
Костя тут и начал просить:
– Когда уже такая ваша милость ко мне, тако прошу вас свадьбу сделать по нашему закону.
– Как это? – спросил барин.
– Так, добродию, как мой дед и отец женился.
– Как это можно? Ты теперь офицер.
– Так будто и должен стыдиться своего роду? Нет, уже, сделайте милость, довершите милости ваши!
Господа согласились и дали ему полную волю распоряжаться.
И все было по закону. Марфуша, разряженная, но с распущенною косою как сирота, ходила по селу, собирала подружек на завтра, и какие славные песни пели ей! А между тем женщины, собравшись в доме, лепили караваи, с церемонией носили по хате и пели, как закон велит. Вечером была у невесты «девичь-вечеря»[237] и танцевали до полуночи.
Назавтра молодых обвенчали, и обедали из них каждый у себя с своими гостями. Пообедавши, Костя и шесть бояр его посадились на коней, а женщина, что вместо матери прошена, выехала на кочерге верхом; шуба на ней мехом наверх, наизнанку, и в мужской шапке, сверх своего очипка. Так она объехала весь поезд три раза, осыпая овсом, орехами и медными деньгами. Потом, взяв лошадь молодую за узду, вывела ее со двора. Вот и тронулся поезд. Тут старший боярин, господский псарь, – да удалая голова! – из пистолета, бац! – и по скакали все, а за ними по ехали все чиновные: дружки, подружки, два староста, две свашки и девочка, светилка с мечом в руках, убранным калиною, васильками, всякими цветочками и с пылающими тремя свечами, вместе слепленными.
Когда ехали мимо церкви, Костя соскочил с коня, взбежал на крыльцо, положил три поклона, поцеловал замок церковный; и поехали к невесте.
Только лишь стали подъезжать, так бояре и начали жарить из пистолетов. Пуф да пуф! только и слышно. Уж на славу все было! Во дворе же невесты что делается? и батюшки! Только услышали стрельбу, тотчас ворота на запор. Выкотили большое изломанное колесо от воза: давай его заряжать вместо пушки песком, да бросать его из колеса, будто отстреливаются, и все с законными приговорками. Вот овладели воротами приехавшие, вошли во двор: тут у старосты выхватил мальчик палку и начал на ней бегать по двору. Староста ходит за ним, умаливает, упрашивает, чтоб не мучил коня, не изноровил бы его, потом дает мальчику денег, получает палку, и тогда идут в дом невесты.
Там опять беда! Невеста с подружками сидит за столом, склоня на хлеб, на каравай, – и хочет не хочет – должна плакать. Подружки ее во весь голос поют насмешливые песни насчет жениха и всех наехавших. Две скрипки на нитяных струнах режут, что им нравится, а цимбалист бьет свое. Подле невесты сидит мальчик, брат ее, с престрашным обломком в руках и усаженным разного рода репьями. Женихов дружка подходит, чтоб прогнать его куда! – мальчик грозит ему застрелить из своего пистолета. Дружка к нему; мальчик пистолетом своим в бороду, и куча репьев остается в ней. Предстоящие утешаются – хохот; крик спорящихся, песни девок, музыка – чудо как весело! Потом брат продаст сестру за червонцы, а всё-то гроши, и уступает место жениху.
Тут пошли подарки с обеих сторон. Подружки невестины песнями пересмеивают жениховы подарки; приезжие свашки и светилка отвечают им такими же песнями, и все улаживается, и выходят из хаты плясать на дворе.
Все, все-таки, не упуская ничего, все исполнили по закону: и молодую во двор мужа ее вечером ввозили чрез огонь. Пусть другие смеются: не нами это выдумано, а еще деды и прадеды, да и от самого начала света, люди так женились и женятся. Смеяться нечего – закон!

