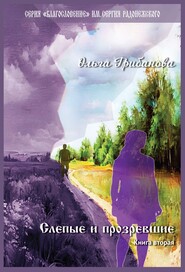скачать книгу бесплатно
И вдруг мгновенной вспышкой озарило сознание: дрожат плечи – мама плачет.
Новая вспышка слепит и обжигает все внутри: мама плачет – маме больно! Больно! Кто больно сделал?
И вдруг начала раскручиваться целая жгучая лента. Папа сказал – маме больно. Мама кричит – папа сказал. Мама кричала – ей было больно! Папа смеялся – маме стало больно, и она закричала. Папа виноват?
Все ближе, все яснее надвигается что-то огромное, непривычное сквозь путаницу коротеньких мыслей маленького человека.
Саша падал на пол – папа смеялся. Саша падал на пол – мама поднимала и обнимала. Саша падал – мама жалела – папа смеялся.
Бьются, стучат в голове беспомощные, куцые мысли. Все ближе и ближе огромное, холодок по коже в преддверии его появления.
Мама жалела – мама плакала – маме было больно. Мама плакала, потому что жалела Сашу. А Саше не больно – маме больно. Это Саша упал и сделал маме больно. Саша сделал маме больно! Саша виноват!
Вот оно и пришло, Огромное, Новое, Незнакомое!
В великом смятении оглянулся Саша на папу и тут же увидел ранее скрытое. Папа смотрел на маму смущенно и растерянно. Он тоже был виноват! И, сраженный своим открытием, Саша бросился к маме на кровать и заревел так отчаянно, как два года назад в миг своего рождения:
– Ма-а-а! Не буду!.. Не буду!.. Не буду!..
5. Плохая мать
Галя лежала без сна, глядя на Сашину кроватку, прислушиваясь к его хриплому дыханию. Рядом посапывал Коля, но это не мешало ей вслушиваться в Сашины хрипы.
Заснуть она не пыталась – незачем. Через минуту-другую закашляется Саша, проснется и заплачет. Судя по частому неровному дыханию, температура поднялась высокая. Тогда Галя возьмет его на руки, Саша обнимет ее горячими ручками за шею, положит тяжелую больную головушку ей на плечо. И будут они так ходить, ходить, ходить по комнате, чтобы Саша не плакал и не будил Колю. Коле утром на работу, голова должна быть свежая – он начальник.
Потом она почувствует, что Сашина кожа стала влажной, – это температура падает. Дышать ему станет легче, и он мирно уснет у нее на плече.
Тогда она, обессилевшая, положит Сашу в кроватку, постоит с минуту рядом, прислушиваясь к дыханию, неслышно скользнет по старому скрипучему паркету и наконец ляжет, быстрым точным движением приняв удобное положение. Саша не услышит, Коля не почувствует.
Но все это мелочи, все это мелочи. Главное то, что она плохая мать. И всегда была плохой, с первых же месяцев, когда после нескольких бессонных ночей она упала с Сашей на руках посреди комнаты. Пришла в себя сразу же, как только раздался Сашин крик. Ничего не случилось с ним, нигде не ударился, на груди у нее лежал. Но она так испугалась, что те ничтожные пятьдесят граммов молока, которые можно было добыть из ее груди, исчезли бесследно.
Тогда, прибежав из кухни на Сашин плач, Коля в первый раз на нее накричал. Что именно он ей крикнул, Галя и не поняла, так потрясло ее то, что этот страшный голос и злое лицо – все это ей!
После этого Коля быстро вышел за дверь, а она осталась сидеть как сидела, только внутри болело что-то большое и черное. Через несколько минут Коля вернулся. Целовал, обнимал, успокаивал. Большое и черное с мукой лопнуло и излилось потоком Галиных слез.
Она, конечно, и не думала на него обижаться. Нет. Никогда и ни за что! У него был тогда такой тяжелый период, оставалась неделя до защиты диссертации. Он очень волновался, худел и мучился от головных болей. А по ночам ему не давал спать Саша. Разве можно обижаться?
Да к тому же он был прав! Какая же она мать, если позволила себе падать с ребенком на руках. Нужно было прислониться к стенке, уж шаг-то могла бы, наверное, сделать. Потом надо было сползти по стене на пол, убедиться, что Саша лежит надежно, и уж дальше заваливаться в обморок сколько угодно. Может, молоко и не пропало бы…
И с этого дня Галя почувствовала, что перестала быть для Коли любимой женой, а стала плохой матерью его сына.
Он возвращался с работы, входил в комнату, и Галя читала на его лице: «Ну что ты еще натворила сегодня?».
Он сердился, когда у Саши болел животик: «Вспоминай, чем ты его накормила!».
Он сердился, когда Саша капризничал и тер кулачком десны:
– Что-то там болит. Сунул, наверное, грязную игрушку в рот. Мыть надо игрушки, мыть! Поняла?
Горькой мукой обернулся для Гали первый Сашин год.
В конце мая Коля отвез их на дачу, на ту, где Гале было так хорошо с бабушкой Кирой. Она незримо жила там. Стояли ее вещи, висели вышитые ею коврики, связанные ею салфетки, пахло сухим шиповником. Бабушка летом собирала облетающие лепестки, сушила и зашивала в маленькие подушечки. Весь маленький домик дышал этим ароматом, будто улыбался бабушкиной светлой улыбкой.
Так прожили они с Сашей и с незримой бабушкой Кирой на даче все лето. В пятницу вечером Коля приезжал, в воскресенье вечером уезжал. Саша не слезал с Колиных рук, не отпускал его ни на шаг и страшно капризничал.
Галя ждала Колю сперва с любовью и тоской. Но вдруг однажды, чистя песком кастрюльку из-под сгоревшей каши, за которую Коля назвал ее чудовищем, она поймала себя на мысли, что до вечернего Колиного поезда еще шесть часов. И тогда наступит покой… И счастье… Ее и Сашенькино. Больше ничье.
Испугалась своей мысли, устыдилась, запретила себе так думать. Но помимо воли была счастлива теперь своим одиночеством с понедельника по пятницу. А Саша заглядывал ей в глаза, прижимался ротиком к ее лицу, такой спокойный, такой умиротворенный, будто тоже был рад, что больше никого рядом нет.
Все сильнее хрипит и клокочет в Сашиной груди. Галя осторожно садится на постели.
Ну вот, закашлялся, заворочался, жалобно заплакал.
Галя взяла Сашу на руки. Так и есть, горячий-горячий!
Да, конечно, она – плохая мать. А Коля – хороший отец.
Она не должна была заправлять Саше рейтузы в сапожки. Ей не пришло в голову, что Коля поведет Сашу по сугробам. Нет, конечно, не Коля Сашу вел, а наоборот. Потому что Саша всегда идет своим путем и ведет за собой окружающих.
Это Саша повел Колю по сугробам. Снег попал в сапожки, и теперь Саша болен. А она – плохая мать.
Коля так сказал ей сегодня.
– Саша, кажется, заболел, – этим Галя встретила его дома.
– Та-а-ак, – сердито протянул Коля. – Ну и как же ты его простудила?
– Я не простудила, – робко отозвалась она. – Это, наверно, после вчерашней прогулки. У него снег в сапожках был.
Коля раздраженно оторвался от тарелки с супом:
– А у хорошей матери ребенок одет на прогулку надежно. Рейтузы надо было поверх сапог, навыпуск, тогда бы снег не набился. Разве не ясно? Тебе все надо подсказывать.
Он опять принялся за еду, опустив глаза в тарелку. Затем нарочито вскользь глянул, увидел Галино лицо в слезах и заметно повеселел:
– Суп вкусный. Наконец-то научилась готовить. А что там на второе?
Саша наконец успокоился на Галиных руках. На лбу выступили капельки пота, и Галя тихо стирает их своей щекой.
Часто он болеет, очень часто. И капризный такой, изнеженный. Нельзя его в ясельную группу, хотя он и умница, и одевается сам, и чисто говорит. Но нельзя. Коля, конечно, прав, как всегда.
И хорошо, что она уволилась с работы и сидит теперь дома. Завтра они останутся вдвоем, прижмутся друг к другу, перечитают все любимые книжки, и к вечеру Саша поправится.
6. Николай Николаевич
Коля впервые в жизни был так собой доволен. Все успел, всего достиг.
Ему тридцать два, это совсем немного. Это раньше казалось, что если за тридцать, уж и старость начинается! Смешно! Он еще так строен и вроде даже красив, что в метро на него заглядываются молоденькие девчонки. Но он гордо поворачивает руку на поручне вагона, чтобы обручальное кольцо было на виду: нечего пялиться, ищите себе молодых охламонов.
На работе он давно уже Николай Николаевич.
С тех пор как четыре года назад его группа сделала хороший прибор, за который все получили приличную премию.
С тех пор как два года назад на данных этого прибора он защитил диссертацию.
С тех пор как полтора года назад он стал начальником группы. И все теперь знают, что через три года уйдет на пенсию нынешний начальник лаборатории, и Морозов, пожалуй, займет его место.
В группе Николая Николаевича Морозова четверо подчиненных. Прежде всего, приятель Андрей, потолстевший, растерявший кудри и уже второй раз женатый. Он называет Колю Николаичем, рассказывает свежие анекдоты и сам хохочет громче всех. Коля по-прежнему зовет его Андрюхой и посмеивается над его разлапистой бородой, в которой вечно хранятся остатки столовского обеда.
Еще в группе Николая Николаевича Морозова есть пожилой Петр Евгеньевич, которого он очень почитает за великую аккуратность и трудолюбие. Взял себе за правило советоваться с ним в практических вопросах и в этом не прогадал. Зато и Петр Евгеньевич полюбил своего молодого начальника от всей души. Может, с ним раньше никто не догадывался посоветоваться?
А еще в группе два молодых специалиста. Парень Юра, в руках которого горит все, что может перегореть, и лопается все, что может лопнуть. Все прочее просто с грохотом падает. И девочка Алина, к которой Коля старался лишний раз не приближаться. Она, бедненькая, краснела, бледнела, все теряла и чуть не плакала от страха перед ним. В конце концов Коля приспособился общаться с ней через Петра Евгеньевича, и дело потихоньку пошло на лад.
Едет Николай Николаевич утром на работу в вагоне метро и с удовольствием вспоминает, что Петр Евгеньевич сделал вчера прекрасный узел – произведение искусства. Сделать бы фото – и в рамку, в красный угол, как икону, да нельзя, совсекретно! Коля вчера всю лабораторию пригласил любоваться, а Петр Евгеньевич растроганно похлопывал его по рукаву.
А Юрка вчера благополучно доработал без замыканий и взрывов, только провода пережег – ну это святое дело! А у Андрюхи появились интересные сигналы – есть над чем подумать! Какой прекрасный будет день!
Входит Николай Николаевич Морозов в лабораторию. Петр Евгеньевич и Алина уже на месте, сидят рядышком и воркуют, как дед с внучкой.
– Доброе утро, Петр Евгеньевич, Алина, здравствуй.
– …астуйть… – шелестит Алина, пламенея от застенчивости.
– Здравствуйте, Николай Николаевич, – приветствует его Петр Евгеньевич чуть не с поклоном.
– Здрасте вам! – на пороге Андрюха. – Николаич, к стопам припадаю, десятку до получки!
– Бороду сбреешь – дам!
– На святыни покушаешься, тиран и деспот! – свирепо замахивается Андрюха.
– Да ты хоть отожми свою мочалку, – дразнит Коля. – Смотри, льет с нее. Небось, целый сугроб на бороде принес!
Их дружеские забавы прерывает Юрчик. Он врывается в лабораторию так отчаянно, что дверь ходит ходуном. От сотрясения падает тяжелая металлическая рейка, стоящая в углу за дверью без движения лет тридцать, зацепляет провод осциллографа, отключает его из сети и наконец доверчиво опускается прямо в протянутые Колины руки.
Разъяренная хозяйка осциллографа, Марина Павловна из соседней группы, вскакивает и кричит:
– Николай Николаевич, уймите ваше зверье!
– Прошу прощения! – кланяется в пояс Коля. – Завтра куплю ему ошейник с поводком.
– И намордник, – ворчит Марина Павловна, заново настраивая свои приборы.
Вот так бодренько начинается рабочий день!
А дальше все так хорошо, так разумно и деловито! Сначала усадить Юрку заменять пережженные провода и перепаивать заново всю плату. Мимоходом взглянуть через плечо на Алинину работу и покивать за ее спиной Петру Евгеньевичу – все прекрасно. Если Алину не пугать, то ее плата будет работать.
Потом до самого обеда сидеть втроем плечом к плечу с Андреем и Петром Евгеньевичем и обсуждать очередной узел.
И так весь день: поругать Юрку, похвалить Алину, похлопать по брюшку Андрюху, посоветоваться с Петром Евгеньевичем. И наконец к любимому столу, где дожидается десятый вариант хитрого узла. Дожидается и подмигивает с чертежа, на скорую руку набросанного: что, мол, институт кончил, диссертацию защитил, так, думаешь, меня легко раскусить? Ничего, ничего, получишься, никуда не денешься, и не такие получались!
А какие люди вокруг славные! Как работать приятно с ними бок о бок!
– Николай Николаевич, как сынок? – интересуются в перерыве семейные сотрудники, обсудив сперва своих детей и внуков.
– Талант! – гордо отвечает Коля. – Артист больших и малых академических театров.
– Как супруга поживает? – лукаво ухмыляется Андрей.
Лукавит он так, по привычке. О прекрасной половине человечества Андрюха говорит только с подмигиванием.
– Все в порядке. Здорова.
– Это хорошо, что здорова. Больно уж она воздушная у тебя. Аж страшно. И утонченность такая рафинированная, м-м-м! С такой женой жить – что из хрустальной вазы щи хлебать.
Андрюха аппетитно причмокивает эти слова вместе с куском хлеба, которым только что подобрал подливку с тарелки.
Коля в душе морщится, но терпит. Андрей-то на самом деле не хочет Галю обидеть. Ему просто надо поговорить о своей новой жене.
– Это фашисты, что ли, объявили… ну как это… для женщин-то… Кухня, церковь, дети – кирхен, киндер и… кухня. А чего, очень правильно, по-моему. Бабе образование только во вред, ей-богу. Вот Татьяна у меня, ну всем хороша была. И хозяйка, и мать, и на вид очень даже – ты же помнишь… Но ведь умучила меня, уела: «Ах, ты ничего не читаешь! А ты Хейли прочел? А ты Олдриджа прочел? Читай – все прочли, а ты нет!». Да мать честная! Это я восемь часов у приборов торчу, в глазах все пятнами прыгает – и еще чего-то читать буду? «Ах, пойдем на Тарковского!» «Зеркало!» Ну и что? И сходили! Бред! У меня чуть крыша не поехала. А она мне: «Ничего не понимаешь!» Объяснять пустилась. Да на хрена мне все это? Чтобы баба мне что-то объясняла? Я в электронике понимаю, в приборах – как Бог! – все насквозь вижу. На кой мне эти мастеры-маргариты с зеркалами?
Андрей сердито булькает, развалившись на твердом кожаном диванчике в коридоре. А Коля в который раз с удивлением вспоминает, что это тот самый Андрей, который еще семь лет назад поминутно взрывался самыми удивительными идеями: и бредовыми, и толковыми.
Это тот Андрей, который влюбился в свою Татьяну на вечере студенческой самодеятельности, услышав, как она поет со сцены: «Мой голос для тебя и ласковый, и томный».
Тот самый Андрей, который мечтал изучить французский, чтобы читать Бодлера в подлиннике.
– А сейчас у меня жена – во! – такая, как надо. Читает чуть не по слогам, пишет – ошибок больше, чем букв. Но сдачу в магазине сосчитает мигом, быстрее меня. А больше ничего и не надо. Зато дома все сверкает. В любое время суток стол от еды ломится. Среди ночи ее разбуди: «Ирка, есть хочу». – «Щас, мигом», – как пожарный. Я только башку с подушки подымаю, а она уже из кухни кричит: тебе, мол, в постельку принести? Во какая!
Андрей говорит и говорит. Какое-то смутное упорство в его глазах, и чем дальше, тем упорнее. Будто доказывает что-то кому-то…
– Татьяна хотела, чтобы я бабой стал, юбку чтобы надел – посуду за собой мыть, холодильник размораживать, с ребенком гулять. Может, лифчики ей еще стирать? Я мужик! Мужик! Ирка это понимает, и я ее люблю. За это…
– Время! Регламент! – досадливо стучит Николай Николаевич по своим часам. – Выключай микрофон, спикер, пошли работать.
Тяжело стало на душе. Испортил Андрюха хороший день.
7. Кучеряшка
Приятно сознавать, что ты в чем-то лучше других. А если ты во всем лучше всех, тогда как? Наверное, приятно, если все соглашаются.
А вот папа морщится, когда Саша туманно намекает ему на свою исключительность.
Саша, конечно, не такой дурачок, чтобы брякнуть: «Я лучше всех». Папа так задразнит, что заревешь со стыда. Уж такой он, папа, не любит хвастунов. А разве это хвастовство? Это ведь так и есть.
Во-первых, Саша в своей подготовительной группе самый красивый. Красивее всех мальчишек и даже всех девчонок. Да-да, сколько раз себя в зеркало рассматривал. У Саши волосы светлые-светлые, как у мамы. Но у мамы прямые, а у Саши завиваются кудряшками, как у Бабали. И лицом на Бабалю похож, особенно нос. Пряменький такой и как будто острым карандашиком нарисованный. А рот неизвестно какой. Может, как у бабули Светы? А может, как у деда Толи? Только там под бородой не разберешь.
А глаза у Саши голубые, но не мамины. Форма другая. Как у папы. Это хорошо, потому что у папы есть взгляд. Все остальные просто смотрят и смотрят, глазами хлопают, а у папы получается взгляд. И Саша упорно экспериментирует перед зеркалом: морщит лоб то так, то этак, вздергивает тонкие брови и, наоборот, подбирает их к носу. Иногда папин взгляд вроде и получается.