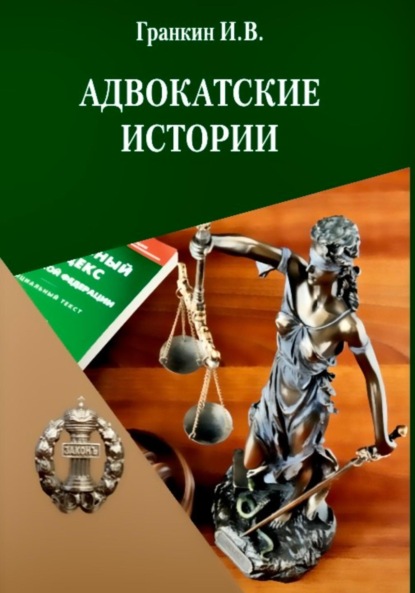
Полная версия:
Адвокатские истории
В заключительной части своего выступления, Ю.В. Новоселов отметил, что Тягунов избрал правильную тактику лечения И-вой. Более того, ее дочь сказала, что он добросовестно относился к своим обязанностям. В то же время она просила лишь не наказывать его строго. Все это позволило адвокату сделать общий вывод о том, что стороной обвинения не представлены доказательства совершения Тягуновым преступления по неосторожности. Он напомнил суду, что это преступление подразумевает совершение преступления по легкомыслию или небрежности. Тягунов же не мог допустить легкомыслие, то есть предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть эти последствия.
Не действовал Тягунов неосторожно. Он осуществлял лечение, осознавая, что непроведение предложенного им комплекса консервативной терапии может привести к смерти пациентки. Но, как специалист высшей, 16-й категории, он понимал, что оперативное вмешательство еще больше увеличивало риск смерти. Иных же способов лечения заболевания И-вой не существовало. В общем, получалось, что Тягунов из двух зол выбрал меньшее. Сказал, конечно, Ю.В. Новоселов, что хирург действовал в рамках должностной инструкции и других нормативных документов, и эти факты никем не опровергнуты. Поэтому подсудимого Тягунова следует признать невиновным и оправдать его. Что касается заявленного дочерью И-вой гражданского иска, то его следует рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.
Несмотря на убедительную речь Ю.В. Новоселова и последовательные иные действия обоих Новоселовых, Симоновский суд города Москвы в лице председательствующего судьи Н.В. Репниковой решил иначе.
В оглашенном ею приговоре от 21 мая 2019 года записано, что Симоновский районный суд города Москвы установил, что А.Е. Тягунов совершил причинение смерти пациентке больницы по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Суд посчитал, что он действовал небрежно и мог предвидеть смерть И-вой. Однако не выявил показания к ее переводу в отделение реанимации и неотложной терапии, допустил недостатки в оказании медицинской помощи пациентке, ненадлежащим образом исполнил возложенные на него профессиональные обязанности, выразившиеся в непроведении комплекса консервативной терапии, не проводил динамический контроль за состоянием И-вой.
Включая эти сведения в приговор, судья, по существу, переносила механически соответствующие строки обвинительного заключения. Эти строки, в свою очередь, основывались на выводах экспертизы от 11 мая 2016 года. Однако ни следствие, ни затем судья не учитывали, что экспертиза не установила непосредственной причинно-следственной связи между лечением и смертью пациентки. Кроме того, эксперты дали неквалифицированные рекомендации о применении препаратов, использование которых могло вылечить больную. К числу прегрешений хирурга судья отнесла и слишком поздний перевод пациентки в отделение реанимации.
Судя по приговору, вина Тягунова подтверждалась не только заключениями экспертов, но и показаниями дочери умершей, а также заместителя главного врача больницы. Между тем это должностное лицо отметило, что только один врач из пяти врачей, которые осматривали пациентку, оценил ее состояние как тяжелое. Выговор же Тягунову был объявлен лишь за дефекты при оформлении документации, а не за недостатки при оказании медицинской помощи больной.
В группу свидетелей, якобы выступивших на стороне обвинения, судья отнес 11 человек. Однако большинство из них лишь косвенно отмечали недостатки в работе хирурга Тягунова. Например, его напарник по дежурству Голяков сообщил, что все их действия были правильными. Заместитель главного врача больницы по хирургической помощи сообщил, что, по его мнению, пациентка не нуждалась в помещении ее в реанимацию, а назначенное Тягуновым лечение было возможным. Его метод, равно как и иной метод (их всего два), несет риск. Летальный исход в обоих случаях имелся. Не дал показания против Тягунова и свидетель обвинения хирург Нурлыев. Он сказал лишь, что после работы в 16 часов 20 минут ушел домой, убедившись, что И-вой стал заниматься Тягунов. Не обвинял его и хирург Е. Чернышков, который примерно в 10 часов утра первым производил осмотр поступившей в больницу И-вой. Он сказал, что ее состояние было тяжелым, но показаний для срочного направления в реанимацию не было. Лишь Седнева, которая была в составе комиссии, проводившей судебную экспертизу, настаивала на правильности их экспертизы, в частности на том, что больная должна была быть направлена в реанимационное отделение, где имелась возможность для проведения всего комплекса необходимой терапии. В то же время она призналась, что нормативно установленные процедуры должен был назначить хирург еще в приемном отделении. Если он не сделал этого, то это следовало бы сделать Тягунову, чтобы соблюсти принцип преемственности.
По сути, Седнева была основным свидетелем со стороны обвинения. Она сообщила, что врачи недооценили в полной мере состояние тяжести болезни пациентки, что в совокупности привело к летальному исходу. В то же время вывод комиссии об отсутствии причинно-следственной связи в смерти пациентки и действиях Тягунова она не отрицала. Она разъяснила, что дефекты в оказании медицинской помощи в течение всего времени нахождения больной в больнице способствовали развитию опасного заболевания и создали условия к наступлению смерти больной. Этому способствовало и то, что после 16 часов лечение, «может, и проводилось, но было недостаточным». Это создало условия для «прогрессирования» заболевания и привело к смерти пациентки.
Когда ее попросили пояснить, почему эксперты назвали официально снятый с перечня лекарств препарат для возможного лечения больной, эта свидетельница «выкрутилась» следующим образом. Она заявила, что эксперты имели в виду характер (то есть свойства) данного препарата, а не конкретизировали применение именно его. Не убедительно, но судья посчитала иначе.
В «подверстку» обвинительной части приговора были приобщены заключения судебно-медицинских экспертиз, протокол осмотра медицинской карты И-вой, акт служебного расследования, приказ главного врача больницы об объявлении Тягунову выговора, а также постановления в отношении двух хирургов о прекращении их уголовного преследования: одного – в связи с актом об амнистии, другого – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В приговоре судья записала, что суд доверяет показаниям потерпевшей, то есть дочери И-вой, и свидетелей обвинения. Свой вывод аргументировала словами: «Их показания последовательны, логичны и существенно не противоречат друг другу». Кроме того, эти показания «подтверждаются иными доказательствами по делу» (имелись в виду вышеупомянутые заключения экспертов).
А вот доводы защитников, их свидетелей, да и самого подсудимого Тягунова, как говорится, на радость обвинению суд признал несостоятельными. По мнению судьи, виновность Тягунова подтверждалась заключением судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, показания свидетелей защиты суд не может принять во внимание как доказательство невиновности Тягунова в инкриминируемом ему деянии, поскольку свидетели защиты высказали лишь свое субъективное мнение. Отверг суд и доводы защиты об отсутствии прямой причинно-следственной связи между действиями «врачей» и смертью пациентки. В общем, суд как бы не заметил, что адвокат Ю.В. Новоселов говорил об отсутствии причинно-следственной связи между действиями Тягунова и смертью пациентки.
В итоге суд нашел правильным квалификацию действий подсудимого по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ и назначил А.Е. Тягунову наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ему установили ограничения в виде запрета выезда за пределы Москвы, запрета без согласия надзорного органа изменять место жительства. Кроме того, Тягунов обязан один раз в месяц являться в этот орган для регистрации.
Парадоксально, но факт: все участники данного судебного процесса, включая самого Тягунова, знали, что это наказание было неисполнимо. Его неисполнимость была обусловлена тем, что еще за два года до судебного разбирательства истек срок давности привлечения Тягунова к уголовной ответственности. Ведь пациентка умерла 20 августа 2014 года. Расследование уголовных дел по статье, по которой обвинялись врачи, в том числе и Тягунов, должно быть завершено в течение трех лет с момента его совершения. По непонятным причинам следственные органы нарушили этот срок. Врач, который был напарником Тягунова в то злополучное дежурство, не возражал, когда дело в отношении его было прекращено в связи с истечением срока давности. А вот Тягунов и, соответственно, его защитники отец и сын Новоселовы отказались от такого завершения разбирательства причин смерти И-вой. Хирургу 16-го разряда, то есть высшей категории, Александру Евгеньевичу Тягунову было важно защищать честь и достоинство, свою правоту при определении диагноза И-вой и метода ее лечения. Поэтому он решил идти до конца, в связи с чем и состоялся описанный нами суд.
Но эмоции эмоциями, а закон законом. Поэтому в анализируемом приговоре Симоновского районного суда города Москвы от 21 мая 2019 года было записано: «…на основании пункта “а” статьи 78 УК РФ освободить А.Е. Тягунова от отбывания назначенного ему наказания в связи с истечением срока давности».
Кроме того, суд отклонил гражданский иск дочери И-вой о взыскании с Тягунова А.Е. в счет возмещения морального вреда денежных средств в размере одного миллиона рублей и предложил ей добиваться решения этого вопроса в порядке гражданского судопроизводства.
Таким образом, финал рассмотрения данного уголовного дела не предусматривал реального наказания Тягунова. Однако дефакто его вина в смерти И-вой как бы подтверждалась. Ведь обвинение в его адрес утрачивало юридическую силу не потому, что его оправдал суд в связи с невиновностью, а в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Это, кстати, сохраняло право дочери И-вой требовать от него компенсации возмещения морального вреда. В том числе поэтому, а не только из-за незаконности данного приговора адвокаты подготовили и направили апелляционную жалобу в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда на приговор федерального судьи Н.В. Репниковой от 19 мая 2019 года.
В апелляционной жалобе адвокат В.В. Новоселов в защиту осужденного Тягунова выразил несогласие с приговором. Такое же несогласие с приговором в дополнение к апелляционной жалобе высказал его сын. Адвокаты отметили, что суд дал ошибочную оценку важным обстоятельствам дела, настаивали на том, что в суде не было установлено преступной связи в действиях их подзащитного с причиной наступления смерти И-вой. Они указали на то, что, как оказалось, больная И-ва в течение 36–38 часов с начала заболевания находилась дома. Когда же Тягунов начал лечение больной, то было упущено достаточно много времени, обратили внимание адвокаты и на то, что их подзащитный четко выполнял требования приказа, в котором были определены полномочия хирурга. Повторили отец и сын Новоселовы и другие ранее приведенные аргументы, доказывая отсутствие причинно-следственной связи между действиями Тягунова и смертью И-вой.
Проверив эти жалобы и оценив все материалы дела, Московский городской суд под председательством судьи Е.А. Гудошниковой определил, что установленные дефекты в оказании медицинской помощи И-вой не являются причиной смерти пациентки и не находятся в прямой причинно-следственной связи с ее смертью. Именно такое заключение сделали эксперты, на что многократно обращали внимание адвокаты в суде первой инстанции и ранее во время следственных действий (к защите Тягунова они приступили через два года после возбуждения уголовного дела).
Апелляционный суд сделал вывод, что указанные обстоятельства при оценке поведения Тягунова судом первой инстанции не были учтены в должной мере. Более того, допущенные Тягуновым нарушения-дефекты при оказании несвоевременной помощи в виде несвоевременной, неадекватной консервативной терапии не содержат ни одного из обязательных признаков состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, а именно необходимости причинно-следственной связи между действиями (бездействием) и наступившими последствиями. Именно это пытались доказать адвокаты в суде первой инстанции.
Исходя из этих выводов, суд апелляционной инстанции постановил приговор Симоновского районного суда города Москвы в отношении А.Е. Тягунова отменить, а уголовное дело в его отношении прекратить в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. А еще этот суд признал за Тягуновым право на реабилитацию.
Однако успокаиваться было рано. Это постановление обжаловал заместитель прокурора города Москвы. В связи с этим уже Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции вернулась к данной судебной тяжбе. 25 мая 2020 года она отменила предшествующее судебное решение и направила материалы дела на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда. 19 августа 2020 года Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в лице председательствующей судьи С.В. Федоровой выполнил поручение вышестоящего суда. Обвинение поддерживали два прокурора. Защищали А.Е. Тягунова В.В. Новоселов и его сын Юрий. Судя по протоколу судебного заседания, перед глазами председательствующей судьи вновь промелькнули ранее описанные эпизоды вменяемого Тягунову и другим подсудимым преступления. Только свидетельница Седнева, показания которой были положены ранее в обоснование виновности А. Тягунова, сказала, что в приговоре суда первой инстанции были неправильно отражены ее показания. Болезнь И-вой прогрессировала сама по себе, то есть она была обречена. А еще было установлено, что проведенные экспертизы не показали, какие конкретно просчеты допустил А. Тягунов. В общем, и на этот раз убедительнее была позиция А. Тягунова и его защитников. Поэтому вполне закономерно, что суд апелляционной инстанции постановил: приговор Симоновского районного суда города Москвы от 21 марта 2019 года в отношении Тягунова Александра Евгеньевича отменить. Далее в постановлении от 19 августа 2020 года записано: уголовное дело в отношении Тягунова Александра Евгеньевича прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

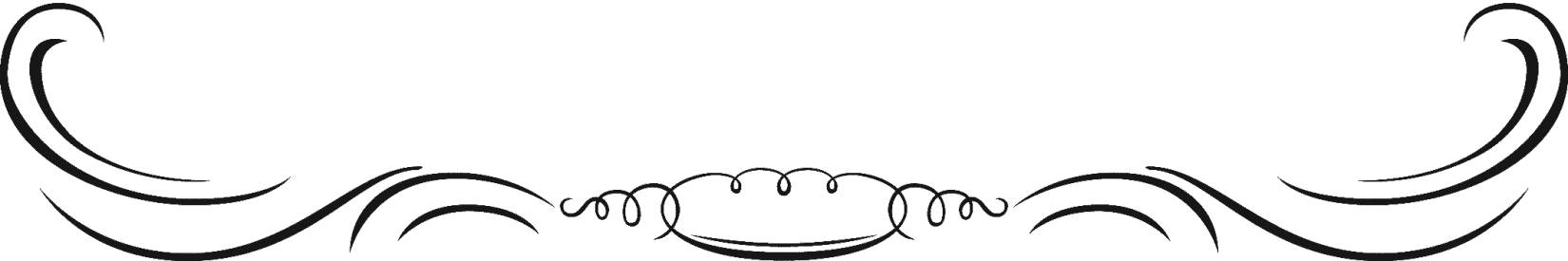
Фальсификация
Когда вспоминают пословицу «Ворон ворону глаз не выклюет», хотят сказать, что люди равного статуса всегда найдут общий язык и договорятся между собой в случае возникновения конфликта. В общем, не станут друг другу выклевывать глаза. Но судебная практика не подтверждает эту пословицу. Наоборот. Судя по многим уголовным делам, она не относится к сфере бизнеса. По нынешним временам мошенники ради наживы идут на любые ухищрения. Даже суды, как ни странно, они достаточно успешно используют для достижения своих корыстных целей. Зная об этом явлении, председатель Московского городского суда Егорова, проработавшая в этой должности двадцать лет, например, постоянно призывала столичных судей к бдительности, требовала от них проверки всех поступающих в суды документов.
О нездоровых взаимоотношениях бизнесменов свидетельствует и уголовное дело по обвинению К-ва в совершении мошенничества, то есть в приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенного в особо крупном размере. По мнению следствия, К-в позарился на имущество своего бывшего партнера В-ны. Причем на весьма крупную сумму – примерно на 180 миллионов рублей. Согласно санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а именно в ней установлена ответственность за мошенничество в особо крупном размере, виновным в совершении этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы. Осужденный на такой срок человек вряд ли сможет вернуться в бизнес после отбытия наказания.
Материалы уголовного дела, возбужденного по инициативе В-ны, говорят о том, что именно эту цель преследовал он, требуя наказания человека, с которым более десятка лет вел совместный бизнес. Для того чтобы К-в не скрылся, 19 сентября 2018 года его взяли под стражу и продержали в следственном изоляторе до 14 февраля 2019 года. К этому времени следствие подошло к завершению. Может быть, поэтому 15 февраля 2019 года К-ву заменили меру пресечения на залог в размере 3 миллионов рублей. Поэтому на суд, в отличие, например, от актера Михаила Ефремова, которого привозили в суд на служебном автомобиле, К-в ходил в это казенное заведение пешком и добровольно.
Защищал К-ва в суде адвокат Сергей Анатольевич Соколов. Как и положено, «погружаться» в дело он начал с изучения обвинительного заключения. Согласно этому официальному документу, скрепленному прокурорской подписью, К-в был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью компании «Квадро». Через представителя по доверенности С. Горбунову, не осведомленную о его преступной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного приобретения права на имущество своего партнера по бизнесу В-ны путем обмана 8 мая 2015 года он подал исковое заявление в Реутовский городской суд. В иске содержалось требование о взыскании с В-ны денежных средств по договору купли-продажи паев фонда «Земли Подмосковья» в размере почти на 180 миллионов рублей, а также расходы по государственной пошлине в размере 60 000 рублей. Данное требование мотивировалось тем, что по договору куплипродажи ценных бумаг от 6 декабря 2012 года, якобы заключенному между В-ной и кипрской офшорной компанией «Синтелпа», ответчик приобрел ценные бумаги – паи названного фонда в количестве 1774 по цене 101 600 рублей за штуку, но их стоимость не оплатил. Иск от компании «Квадро» был подан в суд потому, что ей перешло право требования по упомянутому выше договору от 6 декабря 2012 года.
Далее в обвинительном заключении было записано, что Реутовский городской суд в лице федерального судьи Радиевского вынес заочное решение от 31 августа 2015 года о взыскании с ответчика в пользу истца 180 миллионов рублей.
Об этом В-на узнал, лишь когда представителю К-ва был выдан исполнительный лист на взыскание с него 180 миллионов рублей. В-на добился отмены заочного решения названного суда. Он доказал, что в договоре купли-продажи ценных бумаг, которым руководствовался суд, вынося заочное решение, была подделана его подпись. Более того, и сам договор был сфальсифицирован. Его В-на не заключал, а паи на 180 миллионов рублей приобрел у частного лица, а не у фонда «Земли Подмосковья». Эти показания подтвердил эксперт.
Кроме обвинительного заключения, в подтверждение виновности К-ва в особо крупном мошенничестве Реутовскому городскому суду в составе председательствующего судьи О.Г. Сидоренко были представлены копия искового заявления о взыскании с В-ны 180 миллионов рублей, копия договора купли-продажи ценных бумаг от 6 декабря 2012 года, копия договора об уступке прав требования от 26 марта 2014 года, заключенного между «Квадро» в лице К-ва и офшорной компанией «Синтелпа», также в лице К-ва. Согласно этому договору, права требования по договору от 6 декабря 2012 года переходили к компании «Квадро». Для большой убедительности следствие представило суду еще ряд копий документов как бы подтверждающих причастность К-ва к преступному мошенничеству.
Государственное обвинение в этом судебном процессе поддерживал не только заместитель городского прокурора, но и два его помощника. Ситуация усугублялась тем, что К-в ранее (22 декабря 2015 года) был осужден за совершение другого преступления, подпадавшего под часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, то есть за присвоение ценных бумаг и документов у клиентов компании «Квадро». В связи с этим он около двух лет находился в местах лишения свободы, включая время, когда в Реутовском городском суде рассматривалась первая его тяжба с В-ной.
Этот печальный факт из биографии К-ва свидетельствовал о том, что он мог совершить новое преступление. Ведь не зря говорят, что тюрьма не лечит, а калечит. Реально существующая рецидивная преступность подтверждает это наблюдение криминалистов. Доказать обратное, то есть то, что на К-ва эта закономерность не распространяется, и взялся С.А. Соколов. Естественно, не ради того, чтобы сломать сложившиеся стереотипы. Как и во всех иных случаях своего участия в судебных делах, С.А. Соколов стремился собрать доказательства, на основании которых суд смог бы вынести законный и справедливый приговор. Он не безразличен, конечно, и к судьбам своих доверителей, особенно в тех случаях, когда у них, как у К-ва, есть несовершеннолетние дети. А у К-ва на иждивении было двое малолетних детей. Новое наказание отца, безусловно, отразилось бы и на их судьбе. Да и его жене выживать было бы труднее.
Обо всем этом С.А. Соколов говорил в своей защитительной речи. Однако его основные усилия при подготовке к судебному заседанию были направлены на поиск доказательств, подтверждающих невиновность его доверителя или, по меньшей мере, смягчающих его вину.
Вникнув в суть деятельности компаний, которыми руководил К-в, а его партнером по бизнесу был В-на, а также в особенности их взаимоотношений, С.А. Соколов установил следующее. В целях повышения уровня конкуренции компании «Квадро» они решили увеличить ее уставный капитал с 180 миллионов рублей до 500 миллионов. Увеличить уставный капитал было решено не деньгами, а паями инвестиционного фонда «Земли Подмосковья», которыми в количестве 8000 штук владела подконтрольная им компания «Синтелпа». Реализуя договоренность между собой, К-в и В-на поручили юристу компании «Квадро» Ануфриеву подготовить договоры, необходимые для реального увеличения ее уставного капитала. Юрист подготовил два договора. Первый о купле-продаже ценных бумаг между компанией «Синтелпа», от имени которой по доверенности выступил К-в, и самым К-вым. Фигурантами второго договора были та же компания «Синтелпа» в лице К-ва и В-на. Оба договора датировались 6 декабря 2012 года, но вступали в силу на следующий день, так как ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством нужно было зарегистрировать по базе депозитария. В результате этих сделок К-в и В-на приобретали в собственность по 1774 пая закрытого инвестиционного фонда «Земли Подмосковья» по цене 101 600 рублей за штуку.
Договором от 6 декабря 2012 года допускалась отсрочка платежа до 1 февраля 2013 года, что было вполне резонно. Ведь покупатели должны были заплатить «Синтелпе» почти по 180 миллионов рублей каждый. Но и без уплаты паи были зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах в счет увеличения уставного капитала компании «Квадро» до 500 миллионов рублей. Сделки совершались под благоприятным для бизнесменов поводом – для реализации закрепленного в Конституции России 1993 года права на частную собственность на землю.
Когда такое право включали в Основной закон страны, предполагалось, что крестьянин, получив земельный пай, сможет на выделенной ему земле создать для себя и своей семьи «райскую» жизнь. Но увы. Оказалось, что добиться в одиночку достойной жизни невозможно. Поэтому бывшие колхозники и работники совхозов в массовом порядке избавлялись от принадлежащих им земельных паев. Земля стала предметом купли-продажи, чем и воспользовались предприимчивые люди. Скупая за бесценок земельные паи, они быстро и баснословно обогатились. Но, как известно, денег много не бывает. Вот и К-в и В-на в пору ведения совместного бизнеса хотели большего. Они задумали создать собственный паевой инвестиционный фонд и внести в него паи на скупленные земельные участки. С созданием фонда у них появился бы важный финансовый инструмент – паи с высокой оценочной стоимостью примерно в 8 миллиардов рублей.
Таким образом существенно повышался и имидж компании «Квадро» на финансовом рынке как учредителя паевого инвестиционного фонда. При этом компания получала хороший рейтинг надежности, а соответственно, конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка ценных бумаг.
В общем, задуманная покупка паев на землю была выгодна и К-ву, и В-не как реальным владельцам «Квадро». Предполагалось, что эта компания будет единственным учредителем паевого фонда. В схему покупки паев у фонда «Земли Подмосковья» была включена и подконтрольная К-ву и В-не компания «Синтелпа», уже владеющая ценными бумагами на землю на достаточную сумму.
Выйти на новый уровень совместного бизнеса не удалось. Возможно, потому, что В-на решил стать единственным собственником достаточно крупного бизнеса. Купленные у «Синтелпы» паи он не оплатил. В свою очередь К-в оформил 26 марта 2014 года переуступку долговых требований «Синтелпы» к В-не на компанию «Квадро». Причем соответствующий договор он подписал как директор «Квадро» и как доверенное лицо «Синтелпы», что не противоречило действующему законодательству. Как директор компании «Квадро» К-в получал рычаги влияния на В-ну. Но воспользоваться этим преимуществом он не успел. Как уже отмечалось, против К-ва было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, и он был осужден. Пока он отбывал наказание, де-факто руководил компанией В-на.

