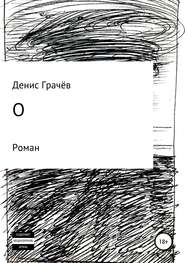 Полная версия
Полная версияО
– О, как высок твой штиль, – проговорил Пётр, который к тому времени, к тому заметно полегчавшему и посветлевшему времени уже научился заново – и небезуспешно, надо сказать, то есть чуть ли не с шиком – дышать; который к тому же разгрёб между тем какие-то тесные, бугристые завалы в лёгких и вновь обрёл дар слова, дар мысли и ещё один, самый драгоценный – дар чувства.
– Ничего, бывает и выше, и, уж поверь мне, непременно был бы повыше, кабы не твой благородный визит.
– Спасибо, дорогой, спасибо… – ответил он и тут же оборвал свой ответ, поскольку, несмотря на то что пришло время спросить о самом для него главном, сил на самое главное, как тó зачастую и случается в этом мире, вдруг не хватило.
– Что-то тухленький ты сегодня, – беззлобно пробурчал Кирилл, и в этой беззлобности ясно как день-деньской прочитывалась его усталость от тяжёлой послеполуночи и от собственного марафонского спича. – Да и понятно оно… Замучил я тебя демосфеновыми своими руладами… У-у, как позднёхонько-то, – спохватился он, взглянув, по-видимости, на часы, захотев, по-видимости, всплеснуть – эть! – руками по-своему, по-мужски, но не совершив того вследствие невозможности всплескивать ими, удерживая одновременно неудобную пластмассу телефонной загогулины.
– Затухлеешь тут, – вздохнул Пётр, но Кирилл не обратил никакого внимания на крывшуюся в этом вздохе многозначительность и, перешагнув через последнюю реплику Петра, сделал вывод то ли из кромешной осенней ночи, господствовавшей на всём пространстве от Москвы до Питера и наоборот, то ли из своих предыдущих слов, сказанных при отключённом мозге на излёте риторической ажитации:
– Ладно, поздно есть поздно – не думай, что этого слова я не знаю. Да и слово усталость находится у меня не только в пассивном запасе. Просто хотелось какого-то вербального контакта…
– Неопытный я сегодня, Кирюш, юзер осмысленных вербальностей…
– Э, Петька, не дури. Правильно заполнять паузы – тоже искусство, так что не будем самоуничижаться: мне нужно было выплеснуться, с тобою беседуючи, тебе нужно было… О, сорри, – раскатисто прорычал он в трубку прямо сквозь огромный зевок, – всё, спанюшки. Давай завтра созвонимся в урочное время. Не забывай нас.
– Да уж вас забудешь, – ответил Пётр и тут же обмер на мгновение от ужаса, что эти слова могли прозвучать с непростительной многозначительностью, но – слава Богу, отомри! – это всего только нервическая суматошность, будь спок, братишка, и братишка продолжает уже сильно успокоенный сам собой: – Позвони мне, Кирь, а то я зело заморённый жизнью в последнее время. Как Олеська-то? (Как же ты утробно ёкнуло, сердце, решившись на такое! Как же просело ты под грузом вопроса сего!)
– Позвоню, куда я денусь. Спит Олеська эта, сопит в две дырочки. Пока, ночи доброй.
И он перебил сам себя короткими телефонными гудками. Пётр слушал их долго и жадно, как если бы утолял жажду.
– В две дырочки, говоришь? – наконец сказал он этим коротким гудкам, которые всё гнались и гнались и никак не нагоняли недостижимый для них длинный гудок. – Ну что же, ночи доброй, милое создание.
Прошло два дня, и, как про любые два дня, об их прошествии гораздо легче заявить, чем прожить всю их тревогу, равно как и всю их маету, бессилие, горечь (которую сто́ит многозначительно выделить в отдельный курсив). Пётр этими днями делал то и это, поступал так-то и так-то, но, несмотря на всю плотность его рабочего графика, достигшего в процессе искусственных наращиваний прямо-таки барочной ажурности, каждый из этих дней по своём истечении имел не растворимый ничем остаток, как если бы нечто неизбежно должно было произойти, но недослучилось, фатально недопроизошло, спрятавшись сапой где-то в непрозрачной складке между двадцать четвёртым и нулевым часом, и не было понятно ни мне, автору, ни тем паче дорогому нашему юристу, чего в этом осадке больше – горького обаяния или же глухого, тихого, но перворазрядного (побольше воздуха в лёгкие —) страха. Впрочем, Пётр и не задумывался над тем, чтобы определить место своему мерцающему чувству: в эти дни он старательно создавал видимость чрезвычайнейшей занятости, которая ни в какую не дает разглядеть то, что творится по ту сторону повседневщины.
В конце второго дня, когда вечер ещё сильнее, добавочной нахлесткой тёмного засурдинил солнце, которое теперь даже и днём, будучи запакованным в серый пух, не светило, а только подсвечивало мутную смерть, притворяющуюся ненастным воздухом, словом, в конце этого самого второго дня, находясь в том блаженном состоянии, когда крайняя измотанность кажется почти бодростью, он почти не удивился тому, что Олеся, про которую внутренний цензор не позволял ему не только думать, но которую непозволительно было видеть даже во снах, взяла его, глубоко задумавшегося о пустоте-тоте-тете, за руку и сказала своим дважды тихим, трижды взволнованным голосом:
– Я не могу жить без тебя, сволочь. Я не могу без тебя жить, самовлюблённый негодяй.
А он молча открыл дверь подъезда. Она, тоже молча, но не отпуская его руку своей мелко дрожащей рукой, зашла с ним. Ему стало вдруг очень холодно, и он даже попытался инстинктивно застегнуть негнущимися пальцами расстёгнутый плащ, не попадая, словно пьяный – монетой в прорезь игрального автомата, пуговицей в петлю до тех пор, пока не понял – а понял быстро, на то он и московский умник – всю смехотворность своих попыток уладить реальность перед многоликим лицом нагрянувшего напролом чуда. В петлю, говоришь, кто-то там не попал? Ты уж будь поосторожней с такими фигурами речи, а то они, поганцы (г – фрикативное), имеют обыкновение этакими чеховскими ружьями расползаться по вниманию доверчивого читателя. А ведь он, наивный, он, трёхголовую собаку съевший на всяких деталях и лейтмотивах, не с тебя, безответственного, – с меня спросит в последнем акте, когда пукалка не то что не выстрелит, а скорее всего обратится в детскую рогатку, в морковный салат, в снеговика с гебистской корочкой: почему не предупредил, почему водил нас за ночь, а не за нос, как положено маститому писаке-умняке? Ну хватит уже, серый, мешать неспешному процессу, хватит уже с пылу с жару сшибать мою прозу с ног своими идиотскими комментариями. И, кроме того, нечего провоцировать своего автора (автора! – подчеркну особо, а не какого-нибудь своего товарища по небытию) к патовой рекогносцировке: невместно мне открещиваться как от маститости, так и от дилетантства – егда пишешь незажатой рукой и со свободным дыханием, то сор, пепел и тлен, которые поднимаются движением пера, окутывают строчки наподобие жизни, а ведь негоже роптать на жизнь, даже если она порой принимает двусмысленную форму чеховских афоризмов. Ну загнул, серьёзный, ну загнул так загнул, креативный – опять без пол-литры не разберешь: у тебя, как послушать, прямо не клавиатура, а мусорный мешочек с пылью, прахом и гилью, которому только и есть дел, что облачать жизнь помойными убранствами. Да и с чего мне не роптать на жизнь, кто она вообще такая, эта претенциозная чушка? Если заслужит – а с неё станется – рыкну так, что полные штаны наложит. Но вот что ещё важно для тебя, плодовитый (…ой-ой-ой, какая страшная в своей многозначительности пауза, сейчас я выроню из ослабевших пальцев перо, а из ослабевшего сердца – отвагу, чтобы не слышать фундаментальных выводов о важности для меня чего-то важного): ведь не думаешь ты, что безнаказанно можешь этаким провинциальным Роланом Бартом козырять одним модным и чрезвычайно вредным словечком – автор, подсказываю тебе это пустое словцо, author, Autor, auteur – и отделаешься от меня только чужими испачканными штанишками. Откуда вообще такая лингвистическая спесь: мол, мы тут, видишь ли, авторствуем во всю ивановскую, а значит – и это самое для меня возмутительное – якобы обладаем пунцовой и багровой супериорностью, а вы, марионетки задроченные, кочумаете в небытии. Ошибаешься: наше небытие, может, и покраше твоей худосочной экзистенции будет, наше небытие пахнет резедой и клевером, в нём ничего не невозможно, и в этих возможностях, которые охватывают тебя сладостным кислородом, жить («жить», жить – вижу скептическую улыбку на твоих устах, но я не гордый, могу обозначить своё пребывание по-разному) значительно просторней – словом, здесь не прерываясь на рутину можно постоянно жить в ударе. Но это всё я произнес вслух, а ведь каждая речь, как ты знаешь, говорится одновременно и вслух, и шёпотом, и почти всегда сказанное шёпотом как-то крепче телом: ведь так говорят правду и только правду, а полным голосом – разное. Так вот, на правах истины я выскажу вчетвертьголоса простую мысль, что, с тех пор как мы и вы обросли потребностью в подтверждении собственной реальности, а, обросши ею, мгновенно потеряли в тумане аксиомы, что умели пестовать специфическую уверенность, которую прежний, обычный угол зрения способен был обратить в то самое чаемое доказательство нашей реальности, – с тех самых пор, словом, мы не имеем права на невыносимую лёгкость, с которой некогда отваживались лепить какие-то чудны́е иерархии, располагая пласты этой великолепной, блистательной, всеполнейшей жизни в порядке убывания их реалитэ́. Но ведь жизнь полна собой, она вся насквозь реальна, от неё так же невозможно отдалиться ни словом, ни делом, как и приблизиться, и если уж зашёл разговор о наших с тобой отношениях (не лукавь, серый, никакого разговора я не заводил, это ты мне навязываешь свои невнятные солилоквии), если уж этот разговор зашел, то, будем честны, мы взаимонереальны, мы просто-напросто взаимоне́жить. О, вот до чего мы договорились, вот как, оказывается, может при определённом попустительстве зафилистерствовать дилетант! Ну и что же говорит твой заводной карманный бергсон14 – нет в этой однородной жизнемагме островков повышенной устойчивости, островочков, существующих помимо или сверх взаимоаннигилирующихся реальностей, точек швартовки к невибрирующему каркасу жизни? Есть, кто спорит – это я всё ещё шепотом, все ещё этаким тишайшим говорком – да только не интересны нам с тобой такие островки: мы дышим раскидистыми мыслями, мы длим себя строками и строками, мы вырастаем колоннадами фраз, а в той офшорной зоне бытия, сколь плодородной для аскетов экзистенции, столь же неблагодатной для нас с тобой, есть место для одной лишь фразы – Мама мыла раму – она и только она обозначает и исчерпывает этот микротопос с повадками параноидального интроверта. Хватит бреда, серый, ты говоришь футбольными полями, а повесть – это поезд, она не стоит на месте, и если правильно объявляет механический голос – при выходе из вещей не забывайте свои поезда – то, пока мама мыла раму, он и она трижды наполнили комнату синим светом, трижды превратили её в октаэдр и своим шквальным дыханием прогрели воздух в ней до полутора миллионов имбирных градусов.
– Это невыносимо, – сказал он, – это невыносимо, когда столько должно быть сказано, и всё то, что должно было быть сказано, просто испаряется при одном взгляде на того, кому это, собственно, и предназначалось. Как эфир.
– Я не могу жить без тебя, – строго ответила Олеся и выжидательно, со значением посмотрела на него.
– Ну что же, – ответил он, и, видит Бог, слова эти дались ему как нельзя просто, – о такой жене, как ты, я мог бы только мечтать.
– Стоп, – резко оборвали его, но ведь совершенно невозможно быть по-настоящему резким, когда у тебя такие лукавые искры в глазах, – стоп, сумасшедший! Я не хочу этого слышать. И самое главное, – она заговорщически понизила голос до свистящего шёпота, – Кирюша не переживёт этого, его надо как-то… м-м… подготовить…
– Прошу тебя, – прошептала она ещё ниже и уже в минорной тональности, когда Пётр в ответ на её предыдущую фразу недоумённо пожал плечами и взялся за трубку телефона. – Я сама найду для него нужные слова. Я знаю, что тебе это не нравится, знаю, что совершаю подлость, но я сама, любимый, сама найду для него нужные слова. Понимаешь? – и на этом занавес, который открылся нам так ненадолго, снова падает, поскольку невозможно чего-нибудь не понять, если лёгкая, легчайшая, нежнее самого нежного летнего бриза ручка сначала притрагивается к, а потом плотненько так охватывает сонный черенок, перевоплощаясь из невесомого атлантического сирокко в плотную, вибрирующую массу тропического шторма.
– Я схожу в душ15, – таковы были её первые слова после часа отчаянной борьбы, в которой то один, то другая вот-вот готовы были задохнуться, в которой, то есть, удушье подстерегало их так близко, что его приходилось отталкивать всем телом, яростно извиваясь, раздирая одновременно усилием огромной, раскалённой воли ссохшиеся лёгкие, и эти первые слова поразили его, как первый крик царственного младенца, потому что за прошедший час он каким-то чудом, юдом, перегудом позабыл, что на этом свете существуют слова, ведь мир прошедшего часа был божественно, прекрасно не́м – не мир, а сплошная сфера торжествующей немоты со сложными, неукрощёнными разводами влажных всхлипов.
– Жду не дождусь, – так ответил он. Но он не просто ответил, он ещё и слукавил, потому что, когда люди произносят эту тоскующую фразу, похожую на глухаря, который раскачивается на ветке, – жду… не дождусь… – они обещают своему милому собеседнику неподвижность и безмолвие, ибо каждый разумеет, что ожиданием нужно окормляться трепетно, с надлежащим вниманием, перерастающим в сосредоточенность, а сосредоточенность, браты мои, болтливой и непоседливой не бывает – бывает она только тугой и убинтованной в скорбное спокойствие, что твоя мумия. И вот в своём яром лукавстве он приподнимает телефонную трубку и набирает номер Кирилла.
– Алло, – отвечает Кирилл, и тут же, с полукашля какого-то узнав Петра, отвечает снова, уже без дежурности, в чьей одежде стартовое алло выглядело пластмассовым парниковым овощем, но с благодушием ужасно зелёного хулигана-пеликана. – У, кого это занесло в наш мирный эфир. А чего это ты так бормочешь?
– Горло, сволочь, барахлит. Да про меня потом, в более урочный и менее тяжёлый для горла час. Слушай, Кирь, не в службу, а вот в это самое – не можешь на выходные поселить одну мою подруженьку милую? Нет, ты её не знаешь. Да клёвая такая чувиха, секретарша моя – ложки ей разные поручаю натирать, чай заваривать, пыль с подоконников стряхивать. Да нет, что ты – рабочий график с этим не клеится. Просто молодуха желает того и этого посмотреть в Питере. Она скотинка смирная, много времени и внимания не отнимет. Сэнк ю аз южуал. Я́ когда? Посмотрим, будет видно в самом скором режиме. Олеська-то как? Добра наживает? Ну понятно. Приветы ей по полной, как вернётся.
– Да ладно тебе через мою голову приветами сыпать. Вот она здесь рядом стоит – сам и передай.
– Пётр? – тихо сказала, и от этой тишины, или, точнее, от блёклости этой тишины, приблизительно сравнимой с блёклостью первых весенних цветов, его бросило (настаиваю на этом слове) в какую-то мёрзлую жуть, и потом, уже из этой жути, подбросило ещё раз, так, что он стукнулся о безумие затылком и сдуру ответил:
– А это ты?
Но ведь самым плохим в этой нелепой фразе было вовсе не суматошное удивление, поскольку чего-чего, а удивления-то, оказалось, в этом вопросе и не было: вот злость на виражи судьбы, резкие каждый раз, но из-за частоты этих резкостей мутирующие в направлении монотонности, – это определённо наличествовало; досада на самого себя, неспособного привыкнуть к вспышкам магния после стольких высокоскоростных разворотов, проделанных бессмыслицей, – с этим тоже было всё в полном порядке, но никаких следов изумления – вещества, вообще говоря, весьма заметного – при всей своей пристрастности он не обнаружил. Да и как их было обнаружить, если зачем-то ведь он поднял трубку этого долбаного телефона, если набрал этот проклятый-любимый номер, если ни с того ни с сего прильнул к трубушке-голубушке сердечным приветом. Для того чтобы ложь не была разрушительной, она должна быть бескрылой, а тут Пётр снабдил её столькими крыльями, что она почти стала существом, в которое просто невозможно не влюбиться.
– А кто же? – ответила она, усмехнувшись, и от этого Пётр вздрогнул, поскольку между его вопросом и её ответом пролегла столь могучая, столь обширная ложь, что соединить два её берега могла лишь напряжённая и вдохновенно-искусная инженерия воспоминаний.
– Я страшно тоскую по вам, – мужественно продолжал он, хотя самым честным было бы просто сказать ей: вы оба ужасаете меня, я боюсь вас по ледяной дрожи. – Надеюсь увидеться ежли не на этой, то на той недельке определённо.
– Да ты что? – крикнула она обрадовано. – Ты себе представить не можешь, как мы будем ждать тебя.
– Спасибо, друганы дорогие. Ну давай, до скорого, а то я как-то опасаюсь голос посадить.
Смешон голый человек, сидящий в задумчивости. Еще смешнее голый человек, сидящий в растерянности. Печален обнажённый, сидящий в смятении. А Пётр был разным, попеременным: он начал с задумчивости, а кончил смятением, потом вернулся к задумчивости, а по истечении оной не был уже никаким, поскольку одетый человек по сравнению с обнажённым, конечно же, никаков. Хотя, впрочем, и в этой замкнутости можно было кое-что различить. Сосредоточенность, например. Какую-то странную решительность. Суровость, я бы даже сказал. Или, возможно, настороженность по отношению к этому миру, которая на посторонний взгляд может представляться суровостью.
Так что она, конечно, удивилась, но ведь люди выдержанные и поднаторевшие в удачном освоении зигзагов судьбы становятся в чём-то сходны с медовым омутом: удивление, конечно, встряхивает ненадолго поверхность их лица, но крутая, почти ртутная плотность омута мигом сглаживает эти сейсмические волны, а ведь лицо – единственное, чем они ещё не разучились удивляться: остальное тело привыкло забывать любые изумления.
– Кататься, – только и произнёс он, и даже если бы она не поняла его с полуслова, ей бы пришлось в авральном порядке осваивать азы сверхзвукового понимания. Поэтому-то ей было лучше обрадоваться или, по крайней мере, сыграть в радость, что она и сделала: какими-то заполошными, как бы захлёбывающимися движениями стала натягивать наугад одежду, с той же размашистостью в жестикуляции побежала в ванную подкрашиваться – и наконец мелко, как песочек через ситечко, затрусила с ним рядом по лестнице, клюнула по пути расчёской во чело и темечко, преобразив текущую, рабочую растрёпанность в пасторальную пригожесть. И всё-таки он был быстрее, коброй нырнув за руль: машина уже завелась, когда она ещё забиралась в салон, сложно, как в конструкторе, сгибаясь в четвёртую погибель. Она не успела захлопнуть дверь, а двужильный мотор уже, сходу взяв высокую моторную ноту, с опасностью для собственного сердца рванул большое, железное, самокатное тело с угнездившимися в нём двумя живыми самоходными те́льцами в направлении больших дорог, и там – выбравшись, то есть, на широкий асфальт – уже дал себе полную волю: забрал квинтой ниже, дополнительно провентилировал лёгкие пенными струями бензина и наконец размахнулся по полной, придавив так резво, что проезжающие мимо авто как-то смазались и чуть ли не растаяли, как будто ими поиграл хороший импрессионизм. И кто же, скорость, тебя выдумал, где ж возрастала, где училась ты просторному ремеслу разгульности? Не даёт ответа, как любая грубая сила, которой начхать на учтивость любого формата. Молчит в тряпочку, поскольку такие умные сущности всегда организуют себе по принципу рекреативной сонной лощинки специальные тряпочки, в которые можно молчать с комфортом, без того чтобы считаться беспомощно растерянным перед лицом острого вопроса.
Он рывком остановил машину у Ленинградского вокзала. Хотя внутри него сверкали ледяные молнии, серьёзно отвлекавшие нашего водителя ото всего и вся, он всё же успел узреть со злорадным удовольствием, как его спутница, чуть было не проткнув твердейшим носом лобовое стекло, похолодела лицом, очевидно, поняв, что́ там дальше должно приключаться с ними с двоими.
Он только посмотрел на неё искоса, а она уже сказала раздражённо:
– Можешь не объяснять ничего. Я всё поняла. Провожать не нужно.
А он и не собирался провожать. И у него были свои резоны, чтобы не смотреть на то, как она стремительно и мягко, будто скользя по льду, удаляется, всё глубже проникая в вокзальную толпу, которая, как и свойственно вокзальной толпе, взбулькивая, кипятилась на медленном огне. Так почему же он не стал смотреть ей вслед? Ведь этот несвершившийся прощальный взгляд, заранее, до своего рождения готовый истово облобызать удаляющийся силуэтик с макушки до пят, не брезгуя и налипшим уже на подошвы вокзальным мусором, казалось бы, ничем не рисковал, он был бы невинен, поскольку незаметен, он был бы необязателен, поскольку силуэт уже удалялся, на полную катушку осваивая ресурсы своей змеиной грации. И всё-таки Пётр был умней каких бы то ни было сослагательных взглядов. Он перевёл дух и тут же надавил на газ, твёрдо зная, что такие вот удаляющиеся спины умеют гипнотизировать получше иных многоопытных факиров и что немного радости быть растворённым этой спиной, как немного счастья, провалившись в неё, в ней захлебнуться. Прощающаяся, утекающая спина – вообще страшное и почти безотказное оружие против здравого смысла, и в этом случае даже не важно, какая она там, любимая или ненавистная: наша внутренняя собачка, навечно прикомандированная к нам лестницей эволюции, так и норовит броситься вслед за ней, нагнать, закогтить, вонзиться в. Держись подальше, дорогой читатель, от этой части тела, вдвойне же подальше держись от неё в районе железнодорожных и автобусных вокзалов, корабельных пристаней и аэропортов: ведь в этих междуместах она уже почти и не спина, она сирена, она русалка с особо обширными навыками.
И ведь самое обидное, что он всё сделал правильно – взял пива, креветок, хорошенько охладил его, сварил их, окропив целым лимоном, включил телевизор и смотрел, запивая, до тех пор, пока перестал что-либо понимать в движущихся этих цветных картинках, – и всё равно она пришла ночью. Вошла очень уверенно, хотя и не через дверь, а откуда-то прямо из угла, пока Пётр сидел в неудобном, угловатом, жёстком, перекошенном кресле и пытался прочесть письмо, которое отец написал ему на незнакомом языке. Он был раздражён на отца, но она быстро охладила его раздражение одним сообщением, которое высказала просто и твёрдо, даже с некоторым акцентом жестокости: «К Вам кое-кто приехал»16. А он стоял перед ней молча и медленно – настолько медленно, насколько это позволяло желание скоропостижно сбежать, а ещё лучше – безмолвно и бесследно провалиться сквозь землю, причём даже необязательно в сторону рая. Или же, если мы решим стать ещё точнее, мы не дыша, но с пером наготове приблизимся к этому испугу, чтобы сказать – о, внимательные, о, терпеливые, то было не просто желание утечь, то была самая что ни на есть породистая, ядрёная страсть к побегу, непонятная, увы, любому, кто ни разу не встречал Тонкую Женщину. А ведь ничего особенно страшного-то в ней и нет. Она же не волк какой-нибудь. Не верволк. Ну, худоба такая особенная, к которой так и клеится идиотский, но точный эпитет неестественная – такая, словом, что при одном взгляде на неё начинает слегка подташнивать. Ну, цвет лица сероватенький, который всегда во сне кажется зеленоватым. Ну, одёжка эта невменяемая, древнеобразная, как чья-то сползшая кожа, старческая, рыхлая, затрёпанная. А так обычная тёхана, каких в жэках и дэзах просто пруд пруди. И хотя обычно люди во сне склонны больше чувствовать, чем понимать, Пётр каким-то восьмым или девятым сверхчувством, которое уже почти граничит с разумом, решил, что, пока в тебя всматривается Тонкая Женщина, у эмоций отсутствуют шансы вести себя хоть сколько-нибудь пристойно, и, раз для страха, который обратил всё тело в тяжёлый лёд, нет никаких видимых причин, то их, причин, невидимость – это хороший повод не замечать их, или, говоря дальше от пустых словоформ, норовящих прокатить на бодрячка, но ближе к реальности, это весомая возможность для того, чтобы научиться поступать, разговаривать, мыслить независимо от страха, спокойно, с достоинством принимая его неизбежное присутствие. И поэтому он, злясь на самого себя и не скрывая своей злости, ответил ей: «Я никого не жду».
– Ждёте-ждёте, – сказала она убеждённо, и что-то на её лице искусственно усмехнулось. – И прошу Вас впредь не лгать. Разве Вы не знаете, что ложь всегда – уверяю Вас, всегда наказуема. И чем больше лжи, тем серьёзнее, друг мой, наказание.
Только не начинать оправдываться, умолял он сам себя. Обвинение начинается с оправданий, и она ждёт их, ой как жадно ждёт, хоть и старается казаться равнодушной к тому, что́ ты там ей отвечаешь.
И тогда он усмехнулся, хотя с самого начала знал о непростительности своей усмешки. «Я никого не жду», – повторил он уже почти твёрдо, и Тонкая Женщина с деланным сочувствием развела ровными руками, как бы обозначая в воздухе размер его прегрешений: во такенную жопу отъели грехи твои тяжкие, Петруша, трясти их не растрясти. Главное – не увидеть её спину, вдруг подумал он, и тут она сделала что-то такое, отчего он мгновенно проснулся, или, точнее, выпал изо сна, словно из мчащегося на всех пара́х поезда, как случается и у нас, простых статистов этой повести17, когда сердце, чувствуя, что вот-вот лопнет от ужаса, и не имея никакой возможности избыть этот ужас внутри сна, передёргивает во имя жизни карту онирической логики, просто-напросто вырывая нас изо сна грубой рукой.

