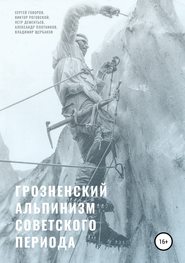 Полная версия
Полная версияГрозненский альпинизм советского периода
***
Помню незабываемое зрелище на плато Кича. Первого мая мы туда пришли, поставили палатки, развели примуса, поели и вечером устроили праздничное шествие с воздушными шариками. Было красиво. Потом шарики отпустили; они улетели вверх по кулуару до гребня и скрылись. Мы ещё какое-то время попраздновали, погрустили и разошлись по палаткам – завтра восхождение. Утром встали с рассветом, собрались, позавтракали, выходим, и тут из-за гребня появляются наши шарики и спускаются к нам по кулуару. Здорово!
Что-то похожее мы видели потом на Уллутау. Раннее утро, идём маршрут 5Б категории (маршрут «по островам») – Василенко, Пыльцын и я. Из-за гребня появилось солнце. И слева по кулуару между «островами» и маршрутом Абалакова полетели вверх бабочки! Их несло по снежно-ледовому кулуару вверх нескончаемым потоком. Они заполнили весь кулуар, скрывались за перегибом, а снизу летели всё новые и новые, параллельно с нами, на высоте за 4000 метров и уходили за гребень Уллутау на грузинскую сторону, на ледник Лекзыр. Что это было за явление, до сих пор не знаю.

На траверсе Кич-Салги: Зенков, Чуприн, Дементьев, М.Говоров, Ивашкин
***
В 1977 году летом я работал в альплагере Торпедо со «значкистами» (второй этап обучения), в промежутках между сменами инструктора ходили на маршруты четвёртой категории сложности. Надо сказать, ходить на спортивные восхождения в Торпедо тогда было непросто. Начуч лагеря, Акритов Иван Панайотович, был вообще-то хороший мужик, но трезвым бывал только час-полтора утром, и, если в это время не успеешь оформить выход на маршрут – потом уже поздно. Начспасом был москвич Белов, который считал, что чем меньше народу в горах, тем спокойнее начспасу. Это никак не вязалось с моими планами. Поэтому на следующий год, соблазненный рассказами Саши Василенко и Валеры Пыльцына о том, что в альплагере Уллутау начуч альплагеря Порохня Юрий Иванович буквально выпихивает своих инструкторов на восхождения, я перешел в альплагерь Уллутау.
А тогда, в Торпедо, по приезду я попал на разбор восхождения группы инструкторов на вершину Адайхох 3А категории сложности. По пути на ночёвки они заблудились, на маршрут не вышли. Больше в альплагере никто на тройки и четвёрки не хотел ходить, я у них сменил руководителя и пошли мы. Потом мы ещё прошли три маршрута категории 4А, с Костей Гузовским из Орджоникидзе прошли маршрут категории 3А в двойке25. Потом в альплагере появился Ивашкин Володя из Грозного, ему нужно было для спортивного роста выполнить руководство восхождением по маршруту категории 4Б, и мы пошли на Заромаг.
Из хижины на Цейском леднике вышли в два часа ночи. Подошли под маршрут и начали подниматься двумя связками: Ивашкин – Тамара Синицына и я с Костей. До этого мы почти все четвёрки проходили, только в отдельных местах используя попеременную страховку. А здесь первая связка с самого начала пошла с попеременной страховкой и продолжала это делать независимо от сложности маршрута. Мы долго молча наблюдали за этим, поправлять старших товарищей было как-то неудобно, а дело затягивалось. Я им говорю: что-то вы очень уж тщательно страхуетесь. А Тамара отвечает: ты сам говорил, страховаться надо не там, где сложно, а где есть куда падать. И где, подумалось мне, в горах найти место, где некуда падать? Ну ладно, идём дальше.
Потом сели обедать, Володя развёл примус, чувствую, дело идёт к ночёвке на маршруте. Что-то во мне с этим не согласилось, и я вышел вперёд. Подходим к висячему леднику, единственному, пожалуй, действительно сложному месту на маршруте. Я нашёл вертикальный ледовый камин метров семь высотой, прошёл его на одном дыхании, вышел на площадку, организовал перила, принял группу, пошли дальше.
А дальше – крутой снежный взлёт на предвершинный гребень. Снега много, фирн за день подтаял, напитался влагой, что под ним неизвестно, но чувствую явственный запах лавины. Ночевать здесь и ждать, пока фирн схватится морозом не хотелось, и я пошёл осторожно один вертикально вверх, чтобы не перегружать и не подрезать склон. Вышел на всю верёвку, попросил подвязать ещё одну. Вышел на восемьдесят метров, склон стал более пологим. Попросил подвязать ещё репшнур длиной двадцать метров. Наконец-то можно было надёжно закрепить верёвку. Организовал перила, по одному поднялись остальные и по пологому гребню пошли вверх. Гроза не предвиделась и площадку под палатку отрыли на вершине. Первый раз я ночевал на вершине! Кажется, и последний. Погода была ясная, видимость во все стороны прекрасная, вокруг – снежные вершины под ослепительным лунным светом, потом луна куда-то ушла, но ярче заблистали звёзды. Сказка!
***
В спортивном обществе «Буревестник», когда я туда пришёл, занятия проводили инструктора Хазов Володя и Бондаренко Коля. Николаева Елена, элегантная женщина, как-то показала мне фотографию, где она стоит в обнимку с Михаилом Хергиани и Тенцингом Норгеем26. На мой вопрос, почему она не ездит на сборы, сказала: вот моя компания. Я тогда толком её не понял. Только потом, в восьмидесятые годы, поймал себя на том, что мне стало неинтересно в горах в отсутствие друзей, которые по разным причинам уже не приедут.
Как-то подошли ко мне Николаева и Бородацкий (это было в октябре 1976 года, в пору активного строительства федерации альпинизма ЧИАССР) и Бородацкий говорит: мы тут посовещались и решили передать должность тренера тебе. Если не возражаешь, сходим в ДСО «Буревестник», я тебя представлю Николаева добавила: на кафедре переговорила, они согласны взять по моей рекомендации тебя. Если не против, пиши заявление, а я буду помогать, пока не освоишься. Так я стал тренером. Занятия в секции для студентов приравнивались к занятиям по физической подготовке. А от ДСО мы получали путёвки в альплагеря и школу инструкторов, «крышу» для проведения своих мероприятий и кое-какое финансирование иногда.
***
Разными путями добывали снаряжение. Например, договорились с руководством альплагеря и закупили в Уллутау списанные верёвки в большом количестве, ботинки, ещё что-то. Естественно, отобрали то, что было ещё пригодно для использования. Система снабжения в те времена была такая, что и альплагеря не всегда имели то, что требуется. Из-за этого у меня серьёзные конфликты были в альплагерях Алибек и Эльбрус, а также на совещании по безопасности в альплагере Адылсу. Рации «Виталки» мы заказали через друзей на заводе-изготовителе (неофициально, конечно), по сто рублей за штуку, той же частоты, что и у грозненского клуба туристов – с тем, чтобы, во-первых, маскироваться под них, а во-вторых, чтобы иметь возможность при необходимости попросить у Полового Толика (руководителя клуба туристов) дополнительно его рации. Ракеты для аварийной связи в горах нам вынес прапорщик – начальник склада в пятнадцатом военном городке. Да ещё и с воющим сигналом в качестве бонуса и совсем недорого.
Всё это делалось вынужденно: в частности, по правилам без ракет невозможно было организовать сборы. Для шитья обвязок, одежды, спальников и прочего организовали поездку за списанными парашютами в Ростов. Из парашютных строп я сшил себе обвязку, в которой потом ходил на все восхождения и которую конструктивно считаю лучшей из всех, которые когда-либо видел, в том числе в альпинистских магазинах в Церматте, под Маттерхорном, а также в Шамони и в многочисленных каталогах. Она до сих пор живая. Железо – кошки, карабины, крючья, зажимы, закладухи27 разные и прочее закупали по всему Союзу у разных умельцев, что-то делали сами. Скажем, Лёнчик Луконенко разработал систему налобного фонарика из обычного «китайского», с квадратной батарейкой, которая пряталась в нагрудный карман пуховки и поэтому не замерзала, и оснастку для его изготовления. Пыльцын Валера изобрёл конструкцию очков для высокогорья из банок из-под сгущенки и технологию их производства и т.д. Всё это, конечно, не от неуёмной тяги к диковинкам, а потому что приобрести нормальное снаряжение возможности в те времена не было.
***
Вспоминается такая любопытная страница грозненского альпинизма начала восьмидесятых годов.
Во время войны в Афгане наши крепко получили по шапке в каком-то эпизоде из-за отсутствия опыта ведения боевых действий в горных условиях, необходимого снаряжения, тактических наработок, подготовленных для боёв в горах бойцов и командиров. Высокие умы в Генштабе обозначили некоторые военные округа (в том числе и Северо-Кавказский) горными и обязали их провести соответствующую работу по альпинистской подготовке военнослужащих. Ко мне, как к председателю президиума федерации альпинизма ЧИАССР, обратился заместитель командира дивизии полковник Петренко.

Грозненская команда перед выходом на Казбек, 1977 г.
Я ему написал обширную записку по горной экипировке и тактике ведения боевых действий в горных условиях. Мы с ним разработали план занятий с командным составом, для начала в объёме первого этапа обучения на значок «Альпинист СССР». В рамках этого плана провели несколько теоретических занятий, скальные тренировки с полевой кухней и большим количеством спирта в Цее, и зачётное восхождение в Кистинском ущелье.
На восхождение вышло двадцать три офицера под руководством Славы Смирнова. На вершину он смог втащить только одного. Позже стало известно, что приказом по части всем этим офицерам было присвоено звание «Альпинист СССР» и некоторые из них отправлены в Афган. Надеюсь, что полученные навыки им там пригодились…
Спасательные работы в Кистинке. Приблизительно в 1980 году наши спортивные группы вышли на восхождения в Кистинке в так называемом Грузинском углу (окруженный вершинами ледовый амфитеатр в верховьях Кистинского ущелья), а мы (я, Василенко, Пыльцын, Тамара Синицина из Москвы) повели остальных, человек тридцать – сорок, на ночёвки на плато Кича. Залезли уже достаточно высоко, когда по связи получили сообщение от Логовского о том, что они находятся на «Хрустальных ночёвках», Слава Смирнов совсем плох, самостоятельно идти не может, похоже на аппендицит, и они начали его транспортировать вниз.
Мы оставили Синицину с женщинами и новичками неспешно спускать их по тропе, а сами посыпались вниз. Там оставили тяжелые вещи, взяли только самое необходимое и пошли вверх по ущелью. Где-то в верхней части ущелья встретили нашу спортивную группу. Они втроём несли Смирнова по морене, это очень тяжело и физически, и технически. Однако они это сделали. Говорю доктору: пойдём разбираться, а он в ответ: знаешь, я вообще-то офтальмолог. Ничего, говорю, с нами Фердинанд Алоизович Кропф. Достал из рюкзака книжку Кропфа «Спасательные работы в горах», открыл нужную страницу. Там написано: при аппендиците при надавливании – боль, при отпускании – резкая боль. Спрашиваю: Славик, где болит? Он в ответ стонет: здесь. Надавливаю: «ой». Отпускаю: «ой-ой-ой». Видишь, говорю, доктор, всё просто. Что тут дальше написано? Обезболить и срочно транспортировать в больницу.
Пыльцын со своими ребятами уже изготовил носилки, Саша Василенко разбил отряд на группы по шесть человек: одна несла носилки, другая уходила вперёд для подмены, третья страховала первую в нужных местах и так далее. Ну и понесли. А это километров десять – пятнадцать по узкой тропе, местами по очень крутым склонам. Славик, терпел, только периодически требовал ещё его обезболить. По рации сообщили начальнику контрольно-спасательного пункта Кирикашвили Зурабу Вахтанговичу в Казбеги, он прибежал к нам, когда начали транспортировку по склонам, а к моменту нашего спуска к дороге пригнал туда машину.

П. Дементьев и Г. Зенков на фоне горы Шан (Кистинское ущелье)
Уже ночью, кажется, привезли Славу в больницу в Казбеги, а там праздник: завтра первое мая. Дежурный врач говорит: ничего, положите вон там, идите отдыхайте, разберёмся. А хирург, говорю, есть? А как же, отвечает, есть! Лучший хирург! Заслуженный врач республики! Но он сегодня уехал на праздники к родственникам, в горы, в Сно, дня через три приедет и зарежет его в лучшем виде! С трудом, но организовали машину за хирургом, он приехал, помыл руки, посмотрел, пощупал, говорит: я сейчас вот здесь, на кушетке, буду спать, через три часа меня разбудите, буду резать. Но это я знаю уже со слов товарищей, я к тому времени уже тоже спал от усталости. Операцию хирург, как и обещал, сделал, аппендикс у него в руке уже лопнул, промыл всё, зашил, Слава остался жив.
Спасательные работы в Дигории. В дальнейшем, помимо Кистинки, мы решили освоить новый для нас район – Дигорию. Для меня-то все районы тогда были новыми, но вот Пыльцын брюзжал, что он всё уже в Грузинском углу облазил и ему там надоело.
В Дигории мы неплохо походили, даже прошли зимний маршрут категории 4Б на Галдор по западному гребню (Василенко, Пыльцын, Синицина и я). На вершине встретились с другой нашей группой (Логовской, Луконенко, Недюжев, Говоров С.) и уже вместе спускались. На спуске на нас спрыгнула лавина – красивое зрелище. В какой-то момент я оказался на небольшом уступчике, а метрах в десяти от нас, слева, была отвесная стена высотой сорок – шестьдесят метров. И вдруг над этой стеной, на фоне голубого неба, появилось что–то вроде белого облака, и я сообразил, что это лавина. Быстро осмотрелся – бежать некуда, остальным ничего не грозит, скомандовал напарнику вбить ледоруб в снег, падать на него и прикрыть голову, и сам сделал то же самое. Но всё-таки смотрел на лавину, сколько можно было. Красиво. Она нарастала, клубясь, заслонила солнце, потемнело, к счастью, основной массой прошла мимо, только слегка припорошив нас. Остальной спуск прошёл спокойно.
На следующий год снова поехали в Дигорию. Первая половина мероприятия прошла по плану, основной наш состав базировался на поляне Нахашбита, а я с новичками провёл занятия на поляне Таймази, сходил с ними на восхождение на пик Уруймаговой. Одновременно с нами сборы проводили ростовчане. Они направились в перевальный поход с отработкой ледовых занятий через перевал Суган, с восхождением по пути на вершину Южный Суган категории 1Б. Вскоре мы узнали, что у ростовчан несчастный случай: одна связка сорвала карниз на перевале Доппах и улетела на другую сторону хребта. Нам сказали, что наша помощь не потребуется, у них там достаточно народу. Мы расслабились и легли спать.
Через полчаса Василенко меня будит – вставай, идем на перевал Доппах, нужно отнести ростовчанам тросовое снаряжение и две акьи (дюралевые лодочки из двух частей для транспортировки пострадавших). Ну, загрузились и пошли. Если бы не Логовской, который поддерживал меня сзади, я бы точно где-нибудь свалился спросонья. К утру подошли к Нахашбите, там дали нам начальника из ростовских инструкторов и он повёл нас дальше. К тому времени совсем рассвело, и я вижу, что ведёт он нас не к перевалу Доппах (между вершинами Доппах и Нахашбита), а на ледник Доппах, в сторону Суганского перевала, откуда мы вчера спустились. А это совсем в другой стороне. Сказали об этом начальнику, он говорит, ребята, всё под контролем. Ну, думаем, может группа вместо Доппаха вылезла на какой-то другой перевал и оттуда свалилась. Ладно, идём дальше. Взгромоздились на ледник, идём-идём, вижу, как-то начальник неуверенно себя чувствует.
Слушай, говорю, вот слева мы прошли Южный Суган, я на нём вчера был, вот справа Суган-баши, впереди Суганский перевал, нам туда надо? Всё, говорит, правильно, впереди перевал Доппах, идём дальше. Рация у Василенко, говорю – Саша, свяжись с КСП, объясни, куда нас ведут и туда ли нам надо. Саша связался, объяснил, ответили: он район знает как свой огород, может ночью с закрытыми глазами, так что не переживайте. Ну идём дальше, подошли под перевал, тут ростовчанин говорит: ребята, что-то мы не туда попали. Из еды на всю группу у него оказался только кусочек сала со спичечный коробок, покормил он нас и отправились мы обратно. Пришли на поляну Нахашбита. Там выяснилось, что тросовое снаряжение уже не нужно, мы его с облегчением сбросили, но акьи нужны, и мы потащились опять на перевал Доппах. На этот раз сами. Сил уже не было никаких, и мы, то и дело останавливаясь, всё-таки под вечер затащили эти акьи на перевал. Там было шесть-семь палаток, одну выделили нам.
Ростовчане попросили одного человека поставить метрах в двадцати ниже перевала для организации переправы через трещину, так как сейчас начнут снизу поднимать пострадавших. Выделили меня, все полезли обживать палатку, а меня новый ростовский начальник повёл осмотреть диспозицию. На той стороне, чуть ниже перевала, были видны две горизонтальные косые трещины, во всю ширину склона, с узким гребешком между ними. Простого пути обхода не было видно. За трещинами крутой снежно-ледовый склон был более пологим, и там темнели несколько палаток: пострадавшие, доктор, спасатели; кто-то мельтешит с фонарями.
Ну что, говорит ростовчанин, скажешь? Я отвечаю: пострадавших поднимать прямо вверх и напрямую через трещины. А люди пусть пройдут справа через нижнюю трещину, потом по гребешку и слева через верхнюю. На этом варианте и остановились.
Справа от перевала выходы скал, там вбит крюк и от него брошена верёвка через трещины. Я посмотрел крюк – весь искорёженный, забит не в трещину, в какую-то морщину. Рядом ничего путёвого для более надёжного крюка не видно. Этот крюк, говорю, нагружать нельзя. А мы и не собираемся, отвечает ростовчанин, народу много, так всех выдернем, руками. Ну ладно. А ты, говорит мне, иди на гребешок: сейчас снизу подойдут люди, направишь их, куда надо. Хорошо. Перепрыгнул я через трещину, прикинул – как будем перетаскивать, расчистил площадку на одной стороне гребешка, на другой, подработал сам гребешок и стал ждать.
Тем временем снизу стал подниматься туман, сначала накрыло палатки с пострадавшими, потом склон, потом и меня. Совсем стемнело, немного мело, и я стал ходить туда-сюда по гребешку от места переправы через первую трещину, до места переправы через вторую, чтобы не замёрзнуть, а заодно и утоптать хорошую тропу.
Часа через три я понял, что что-то пошло не так, и надо бы отсюда выбираться, пока совсем не превратился в снеговика. Но самостоятельно перепрыгнуть через трещину снизу-вверх сил уже не было, я подождал, когда какой-то ростовчанин вылез из палатки, подозвал его, слегка ошалевшего, и попросил прислать мне Василенко из грозненской палатки. Саша вылез, подошёл, я ему растолковал, что надо, он бросил мне конец верёвки, я обвязался, взялся за неё, прыгнул, помогая ногам руками, он ещё поддёрнул и вытащил меня на ту сторону.
В палатке было тепло, был чай, ноги оттёрли, но ночевать нам не пришлось: приходит уже другой ростовский начальник, говорит: с рассветом начнут поднимать пострадавших, на перевале места мало и палаток мало, а народу много, спускайтесь на поляну Нахашбита и ждите нас там. Мы донесём до поляны сами, а там дальше понесёте вы. Ну и пошли мы вниз на поляну.
Туда же, ещё раньше, мы по рации вызвали и мужиков нашего отряда для транспортировки пострадавших. Когда спустились, на поляне уже стояли несколько палаток, две из них были выделены нам, Володя Хазов сунулся в одну: на полу лужа подтаявшего снега. Говорит: ребята, здесь тепло, вода! – и полез дальше в палатку. Наконец-то можно было и поспать. Постелить было нечего, пододвинул я под голову какой-то камень и лёг на него не снимая каски. А вот Слава Смирнов спал без каски и утром самостоятельно встать не смог: его букли вмёрзли в лёд.
В процессе обсуждения ситуации было выдвинуто несколько кардинальных предложений, как его освободить от этого плена. Наконец Луконенко и Логовской немного подкопали голову ледорубами, и Слава, напуганный дальнейшими перспективами, освободился сам. У Саши Василенко опухли растёртые накануне ноги и не влезали в ботинки. Он сказал, что если без него обойдёмся, он потихоньку пойдёт следом. Попили чаю и стали прикидывать, как тащить людей вниз по крутому склону.
Только нашли подходящие для спуска снежники – видим, несут пострадавших. Мы их подхватили, за несколько минут спустили по снежникам почти до начала крутого подъёма на ночёвки и дальше вниз до дороги. Мне только оставалось подсевшим к тому времени голосом командовать смены через каждые несколько минут, чтобы не терять темпа. На дороге уже ждала машина и пострадавших увезли вниз. На этом наши сборы и закончились. Все устали, да и времени на что-то серьёзное уже не оставалось.
Альпинизм и формализм. В моей альпинистской биографии более ста восхождений, в том числе шестнадцать пятой и шестой категорий сложности; тридцать три смены инструкторской работы в должностях от командира отделения первого этапа до начспаса альплагеря Эльбрус, а также редакционная статья в журнале «Советские профсоюзы» за апрель 1986 года по поводу отпусков без содержания. Дело в том, что среди случаев, когда администрация обязана предоставить такой отпуск, в числе прочих причин есть фраза «инструкторам альпинизма для работы в альплагерях». А история этой статьи такая.
Как инструктора уезжали на работу в альплагеря? Предварительно договаривались с начальником учебной части альплагеря; он потом отбирал нужное ему количество на каждую смену и отправлял им приглашение, а на работу приглашённым письмо с просьбой предоставить их работнику отпуск без содержания согласно законодательству. На предприятиях открывали КЗОТ – ни слова на эту тему там не было. Только в комментариях была ссылка на древний, ещё Сталиным подписанный закон, давно уже необязательный к исполнению. В результате далеко не все инструктора могли поехать работать в альплагерь.
В 1985 году Юра Шортов, в то время начальник учебной части альплагеря Эльбрус, предложил мне поработать у них начспасом. Я согласился, Федерация и Управление альпинизма меня утвердили, мне выслали приглашение, на работу выслали письмо. Я, как положено, пишу на работе заявление на отпуск, ссылаясь на письмо. Заявление моё директор не подписывает, время идёт, пора уже и ехать, пишу я ещё одно заявление, отдаю секретарше под роспись и уезжаю.
Начал работать, а из Управления альпинизма приходит телеграмма, что отпуск мне на работе не дали и со мной расторгают контракт. А где лагерю брать начспаса? Начальник лагеря Шевченко говорит: Кропф, который и готовил телеграмму, сейчас где-то здесь, в Приэльбрусье, отлови его, поговори. Ну, отловил, поговорил. Кропф говорит: если все уедут, кто на предприятиях работать будет? Я возмутился: вас поставили альпинизм развивать, инструкторов растить, а вы их топите. На кого работаете? Поругались немного. Я рассказал ситуацию Шевченко, он говорит: денег у тебя нет, на билет ты ещё не наработал, вот тебе командировка в Москву, там надо двадцать пар кроссовок получить (страшный дефицит в то время) и ещё кое-какое снаряжение. Устраивай свои дела, получится – привезёшь, не получится – отправишь. Кстати, будет время – зайди к Кропфу, отдай ему одну пару кроссовок.
Самолётом, как белый человек, из Минвод я прилетел в Москву, приехал на работу, захожу к директору, он мне говорит: а, явился! Давай пока на работу, а я посмотрю, как тебя наказать. С тем и ушёл. Получил я снаряжение, кроссовки (все почему-то размеров с 36-го по 39-й), с мешками заявляюсь в Управление, Кропф выходит из-за стола (они там все в одной комнате сидели), за руку здоровается: это ты кроссовки получил? У меня племянница давно хочет, не можешь одну пару уступить? Указание на его счёт я имел, одну пару отдал и уехал в лагерь работать.
Приезжаю, а там Назаренко, инструктор из Харькова, возмущённый всем этим безобразием, со своими ребятами подготовил ругательное письмо в Управление. Я говорю: это хорошо, но толку не будет. Проблема касается не только меня, всех инструкторов, Управление её решать добровольно не будет, их надо заставить. А вообще надо вносить дополнение в КЗОТ, а реально это сделать можно, если будет указание с самого верха. И написали мы письмо в Политбюро ЦК КПСС. А чтобы придать ему вес, решили собрать под ним подписи инструкторов. В свои выходные, вместо того, чтобы ходить на восхождения, ездили по лагерям, собирали там митинги, зачитывали письмо и просили подписать. Причём подписывали по разработанной форме: ФИО полностью, домашний адрес, место работы, инструкторская квалификация, партийность. И хоть и страшно было, но многие подписывали: наболело. Собрали где-то полтысячи подписей.
Потом, уже осенью, Назаренко приехал ко мне, пошли мы в приёмную ЦК и попросили нас принять. Нам сказали: письмо сдайте вон в то окошко, спасибо, ответ получите в установленном порядке. Но мы не сдавались, продолжали настаивать. В конце концов, вышел к нам какой-то мужик, повел нас длинными коридорами, с переходами, передал другому мужику, тот завёл в большой пустой кабинет, усадил нас, сел сам, представился, взял письмо, внимательно прочитал. Ну и что, говорит, вы хотите? Мы объяснили нашу проблему. Сказали, что это связано с безопасностью в альпинизме и качеством учебной работы и что надо бы подправить КЗОТ в части обязательности предоставления отпусков без содержания инструкторам альпинизма на время работы в качестве таковых. Он говорит: ладно, подумаем, что можно сделать. С тем и расстались.



